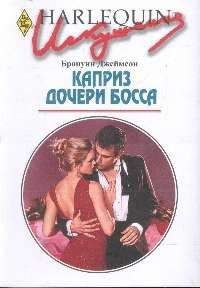Джудит Крэнц - Пока мы не встретимся вновь
Когда мисс Доини давала бал, к ней приходили все.
Ева вцепилась в руку Поля, неожиданно почувствовав робость. Это был их первый большой выход после приезда в Лос-Анджелес. Еве понадобилось столько времени, чтобы познакомиться с жизнью французской части населения города, что она успела завести себе друзей лишь среди местных французов.
Поэтому они с Полем не знали ни нефтяных, ни газетных магнатов, ни владельцев обширных земельных участков под застройку, ни людей из Хенкок Парка или Пасадены, то есть самых богатых и могущественных людей в городе — короче, никого из тех, кто собрался этим вечером у Доини. Среди гостей Ева узнала лишь нескольких самых знаменитых звезд кино, которых пригласили присоединиться к избранному обществу, но те, разумеется, не знали ее.
Даже в такой европейской обстановке непринужденность американцев приводила к тому, что, представляя друг другу незнакомых людей, они опускали одну маленькую деталь: какое место то или иное лицо занимает в местной иерархии. Все это напоминает необычный маскарад, где никогда не угадаешь, кто скрывается под маской, подумала Ева, спускаясь вместе с Полем по лестнице, ведущей к плавательному бассейну. На крыше огромного крытого бассейна играл оркестр. Танцевали внизу, на специально выложенном для сегодняшнего бала деревянном полу. Вполне возможно, подумала Ева, что они покинут этот важный прием, так и не познакомившись ни с кем, кроме тех, кто сидит рядом с ними за ужином. Однако для тех их имена ничего не значили, и им было куда интереснее перекинуться словом с друзьями за другими столиками, чем разговаривать с парой иностранцев.
Когда в 1917 году Ева выходила замуж за Поля де Ланселя, она и не подумала, чем грозит ему подобный союз: зачем размышлять о том, какой будет жизнь «после войны»? Тогда Ева почти ничего не знала о его происхождении, прежней жизни и родственных связях. В ту пору это не волновало ее. Оставив ради него мюзик-холл, она не подумала, что жертвует карьерой ради домашней жизни. А ведь она так упорно готовилась стать звездой мюзик-холла, и именно такое будущее предрекал ей Жак Шарль.
По прошествии долгих лет Ева поняла, что они с Полем пожертвовали друг для друга чем-то очень дорогим. Семья Поля приняла ее неприязненно и настороженно. Его мать не скупилась на слова, давая невестке понять, что, женившись на ней, Поль навсегда лишил себя надежды «сделать карьеру», то есть в будущем стать послом.
Впоследствии Ева поняла, что случилось это не из-за ее провинциальности и буржуазного происхождения и даже не потому, что она пела в мюзик-холле, а из-за отношения к этому браку того мира, к которому принадлежали Лансели, а также и люди, правившие на набережной Орсэ. Ни для кого из них не было различия между ее пением и лихим отплясыванием на сцене полуобнаженных статисток. Женщина, поющая в мюзик-холле, представлялась им лишь немногим лучше уличной проститутки.
Однако Поль женился на ней не по наивности и неведению, понимала Ева. Ему был тридцать один год, и, как профессиональный дипломат, он прекрасно разбирался в закулисных интригах в министерстве иностранных дел. Значит, он женился, отлично сознавая, что Ева — неподходящая для него пара. Нет, не просто «женился», поправила себя Ева и гордо вскинула подбородок: охваченный непреодолимой страстью, он настаивал, требовал, умолял, чтобы она вышла за него замуж.
Но все же Ева чувствовала, что на ней лежит определенная… ну, может, не вина, а… ответственность. Поэтому никогда больше не пела она на публике и за все прошедшие годы даже не упоминала при муже о мюзик-холле. Она не могла перечеркнуть свое прошлое. Но и вспоминать о нем нет необходимости, решила Ева. А потому ни в Канберре, ни в Кейптауне никто не подозревал, что общая любимица мадам Поль де Лансель — эта молоденькая, верная и преданная жена и мать когда-то выступала на сцене.
Но, Боже, как же она скучала по мюзик-холлу. Жак Шарль оказался совершенно прав. Время от времени Еве нестерпимо хотелось ощутить ни с чем не сравнимый трепет, который она испытывала, выходя на сцену, услышать аплодисменты, увидеть огни рампы. Но больше всего ей не хватало музыки. Она пела, аккомпанируя себе на фортепиано, для дочерей, но ведь это несопоставимо с пением на сцене, подумала Ева.
Они с Полем присоединились к сотням гостей Доини на ярко освещенной танцевальной площадке возле бассейна и медленно поплыли в модном ритме фокстрота. Век веселого и легкомысленного джаза миновал, и началась эра роскоши. Вечерний воздух был пропитан ее духом, тяжелым, как рубины, украшавшие Мэри Пикфорд, как бриллианты, сиявшие на Глории Свенсон. Несколько женщин были в таких же, как и у Евы, черных шелковых платьях, но на них было гораздо больше драгоценностей. Среди этого великолепия Ева чувствовала себя зеленой девчонкой из Дижона в одолженной шляпке.
— Могу ли я удостоиться чести пригласить на танец вашу жену, месье консул? — произнес знакомый голос.
Поль оглянулся через плечо, затем с удивленной улыбкой сказал:
— Добрый вечер, месье. Соотечественнику я это позволю.
— Нравится ли вам в Голливуде, мадам? — спросил Еву Морис Шевалье.
— Мне все задают этот вопрос, — рассеянно ответила Ева. Она никогда раньше не встречалась с Морисом Шевалье, но он держал себя так непринужденно и просто, словно они вернулись к недавно прерванной беседе.
— Как же вы отвечаете на него?
— Говорю, что Голливуд мне очень нравится.
— А он вам на самом деле очень нравится? — переспросил Шевалье с искренним любопытством.
— И да, и нет. Голливуд — это нечто… особенное. К здешней жизни трудно привыкнуть…
— Особенно если в памяти светятся фонари Больших бульваров.
— Больших бульваров… — Ева заставила себя произнести эти слова равнодушно; в них не было ни вопроса, ни утверждения, ни намека на продолжение, словно они не имели отношения ни к ней, ни к ее кавалеру, лицо которого показалось Еве до абсурда знакомым.
— Да, Больших бульваров, — повторил Шевалье. — И огни рампы, Мэдди. Огни рампы.
— Мэдди?.. — не веря собственным ушам, произнесла Ева.
— Конечно, я же слышал, как вы пели. Кто однажды слышал пение Мэдди, уже никогда его не забудет. Так утверждали все, и были правы.
— О-о!..
— Я слышал вас в четырнадцатом году в «Олимпии», в тот самый вечер, когда вы впервые появились на сцене, и затем еще раз в том же году, когда вы пели для солдат на фронте. Что это был за вечер! Вы, прекрасная, в безумно смелом красном платье и красных туфельках! У ваших волос был такой оттенок, словно кто-то опустил три спелые ягоды клубники в бокал с шампанским, а затем выставил его на яркий свет… Ах, Мэдди, в тот вечер вы сделали нас, бедных солдат, самыми счастливыми людьми на свете! Это произошло шестнадцать лет назад, а я помню все до мельчайших подробностей, будто это произошло вчера.