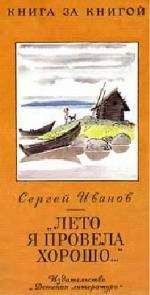Нэнси Митфорд - В поисках любви
— По-моему, здесь никто не живет, не попробовать ли взглянуть, что внутри?
Позвонили; вышел старый слуга, подтвердил, что никто там не живет уже много-много лет, и вызвался показать им внутренние покои. Они вошли, поднялись в salon[77], выходящий тремя окнами на канал и отделанный лепниной пятнадцатого века, белой по бледно-голубому полю. Эта комната была само совершенство. Моя бабушка пришла в непонятное волнение и долго стояла, не говоря ни слова. Наконец, обратясь к матери, сказала:
— Если в третьем ящике вон того бюро находится шкатулка филигранной работы, а в ней — золотой ключик на черной бархотке, то значит, этот дом принадлежит мне.
Мать посмотрела — все в точности так и оказалось. Давным-давно, в дни далекой юности, один из бабкиных возлюбленных подарил его ей, о чем она с тех пор совсем забыла.
— Боже мой, — сказала Линда, — какая же у вас, иностранцев, увлекательная жизнь!
— А теперь он принадлежит мне. — Он протянул руку и отвел у Линды со лба непослушную прядь волос. — И я завтра же повез бы вас туда, если бы не…
— Если бы не что?
— Теперь, в ожидании войны, нужно, видите ли, быть здесь.
— Да, я все забываю про войну, — сказала Линда.
— И правильно — давайте о ней забудем. Как вы скверно причесаны, дорогая моя.
— Если вам не нравится, как я одеваюсь и как причесана и глаза у меня, на ваш вкус, слишком меленькие, — не понимаю, что вы во мне нашли.
— Тем не менее готов признать, кое-что у вас не отнимешь.
Обедали они снова вместе.
Линда сказала:
— А встречи с другими людьми у вас что, отсутствуют?
— Нет, конечно. Но я их отменил.
— С кем вообще вы водите знакомство?
— С людьми из общества. А вы?
— Когда я была замужем за Тони — то есть первый раз, я хочу сказать, — я вращалась в обществе, вела светскую жизнь. Мне тогда это очень нравилось. Но потом Кристиан осудил такой образ жизни, он прекратил мои поездки на балы и вечера и распугал всех моих знакомых, считая их безмозглой и несерьезной публикой, и мы ни с кем не встречались, кроме людей серьезных, которые задались целью исправить мир. Я над ними тогда подтрунивала и, откровенно говоря, скучала по прежним друзьям, а вот теперь — не знаю. Пожалуй, с тех пор, как побывала в Перпиньяне, сама сделалась серьезней.
— Сейчас все становятся серьезнее, к этому ведет ход событий. Однако кем бы ни были вы в политике — правым, левым, фашистом, коммунистом, — в друзья можно брать только людей из общества. Дело в том, что у них личные отношения возведены в степень высокого искусства, как и все, что им сопутствует — манеры, платье, красивые дома, хорошая кухня — все то, что делает жизнь приятной. Глупо было бы этим пренебречь. Дружба — нечто такое, что должно строить со всем тщанием, имея на то досуг, она — искусство, природа к ней непричастна. Отвергать общественную жизнь — жизнь высшего общества, я хочу сказать, — не следует ни при каких обстоятельствах, она способна дарить большое удовлетворенье — насквозь искусственная, понятно, но захватывающая. Что, как не светская жизнь, — если отбросить жизнь интеллектуальную и жизнь, посвященную самосозерцанию, религии, которые доступны лишь немногим, — что еще отличает человека от животных? И кто понимает ее лучше, чем люди из общества, кто умеет сделать ее столь необременительной и занятной? Но совмещать ее с романом нельзя, ей нужно посвящать себя полностью, иначе не получишь удовольствия — соответственно, я отменил все свои встречи.
— Какая жалость, — сказала Линда, — потому что я завтра утром уезжаю в Лондон.
— Ах да, я и забыл. Какая жалость.
— Allô-allô.
— Я слушаю.
— Вы спите?
— Сплю, конечно. Который час?
— Два, приблизительно. Хотите, я приеду?
— Как — прямо сейчас?
— Ну да.
— Очень было бы мило, признаться, если бы не одно — что подумает ночной портье?
— Дорогая, как в вас говорит англичанка! Хорошо, я скажу, — у него не будет и тени сомненья.
— Вероятно, не будет.
— Но, полагаю, он и так не заблуждается. В конце концов, я приезжаю за вами три раза в день, кроме меня вас никто не посещал — а во Франции, знаете, живо подмечают такие вещи.
— Да, понимаю…
— Отлично, — тогда я сейчас буду.
Назавтра Фабрис переселил ее в квартиру, что было, по его словам, удобней.
— В молодости, — сказал он, — мне очень нравилась романтика, нравилось подвергать себя разного рода риску. И в шкафах-то я прятался, и в сундуке меня в дом вносили, лакеем переодевался, в окна лазил. Да, полазил я по окнам! Как-то, помню, взбирался по стене, завитой плющом, а в нем — осиное гнездо — вот были муки! Неделю потом ходил в дамском бюстгальтере. Ну а теперь предпочитаю устраиваться с удобством, следовать известному распорядку и иметь свой собственный ключ от двери.
Верно, думала Линда, меньшего романтика, чем Фабрис, более прозаического человека нельзя себе представить — ни намека на сумасбродство. Чуточка сумасбродства не помешала бы.
Квартира была изумительная — большая, солнечная, обставленная в современном вкусе и на самую широкую ногу. Она выходила на юг и запад Булонского леса, вровень с верхушками деревьев. Верхушки деревьев и небо — такой открывался вид. Огромные окна работали по принципу автомобильных: стеклянная панель целиком уходила в стенной зазор. Что доставляло массу радости Линде, которая любила открытый воздух, любила часами нежиться на солнце нагишом, покуда, вся коричневая, сонная, не разомлеет, прокалясь насквозь. При квартире — в качестве приложения, принадлежащего Фабрису, по всей видимости, — имелась милейшая пожилая экономка по имени Жермена. Ей помогали разные другие старушки, появлялись и снова исчезали, сменяясь во множестве, поражающем воображение. Она явно знала свое дело — в мгновение ока Линдины вещи были вынуты из чемодана, выглажены, убраны и она уже готовила на кухне обед. В голову Линде лезла непрошеная мысль — сколько других обитательниц приводил Фабрис в эту квартиру — но так как выяснить это удалось бы вряд ли, да и желания такого не было, она прогнала эту мысль. Свидетельств, что таковые существовали, во всяком случае, не осталось — ни наспех записанного телефона, ни следов помады, ничего; можно было подумать, что квартиру кончили отделывать только вчера.
Принимая ванну перед обедом, Линда предавалась не очень веселым размышлениям о тете Сейди. Она, Линда, была теперь содержанка и прелюбодейка и знала, что это не понравилось бы тете Сейди. Ей не понравилось, когда Линда совершила прелюбодеянье с Кристианом, но тот, по крайней мере, был англичанин, был Линде представлен честь по чести и она знала, как его фамилия. Кроме того, Кристиан с самого начала собирался на ней жениться. Насколько же больше не понравилось бы тете Сейди, что ее дочь познакомилась на улице с каким-то никому не известным безымянным иностранцем и без оглядки отправилась жить с ним в роскоши. Это вам не ланч в Оксфорде, она пошла куда дальше, хотя все по той же дорожке, как, несомненно, счел бы дядя Мэтью, узнав о нынешнем ее положении — и отрекся бы от нее навеки, и вышвырнул бы на снег и стужу, и застрелил бы Фабриса или придумал в своем неистовстве что-нибудь похлеще. Потом еще что-нибудь рассмешило бы его, и все пошло бы опять по-старому. Другое дело — тетя Сейди. Она мало что скажет на словах, но примет все это близко к сердцу, впадет в тягостное раздумье, спрашивая себя вновь и вновь, правильно ли воспитывала Линду, не допустила ли в чем-либо огрех, который и сказался ныне. Линда надеялась всей душой, что она ничего не узнает. Ее вывел из задумчивости телефонный звонок. К телефону подошла Жермена; постучалась в дверь ванной и сказала: