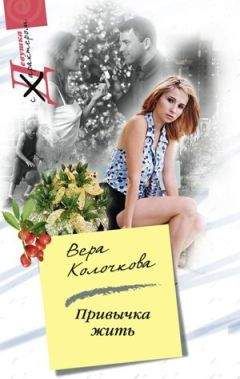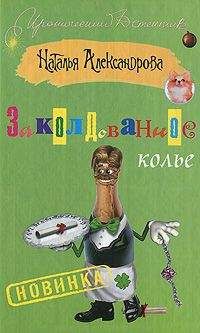Вера Колочкова - Дом для Одиссея
– Да я вообще с музыкой завязал! Представляешь? И нисколько не жалею! Да и некогда мне. У нас с Алинкой двое близнецов растут, их же кормить-поить надо, в люди выводить! А это занятие, знаешь, потруднее да покруче, чем клавиши на концертах перебирать.
– Да-а-а? – снова открыла свой яркий красно-помадный рот Светланка и удивленно уставилась на Алину. Да так, что ей самой захотелось посмотреть со стороны, чего такого странного она в ней увидела. Ну, не подходит Алина ему, это понятно. Ну, полную дисгармонию составляет рядом с этим высоким писаным красавцем, тоже понятно. А только ей сейчас все это до лампочки. Потому что отпусти этот писаный красавец от ее талии руку, она действительно упадет лицом прямо на грязные плиты аэропортовского зала и не долетит уже ни до какой московской кардиологической клиники.
Это потом, с появлением в ней нового, отремонтированного врачами сердца, ей тот Светланкин взгляд вспомнился. Сердце стучало теперь само по себе и хорошо исполняло все свои обязанности, и прав Лёня – ни о чем таком с ним можно было не договариваться. И не направлять на эти договоренности все мысли и чувства. И они обрушились на Алину всем скопищем, странно кружа в голове мешаниной и выныривая короткими яркими вспышками прошлых событий. Вот как этот удивленный Светланкин взгляд, например. Или вот еще Лёнина нежная жалость. Раньше она ее с такой радостью и благодарностью принимала, а теперь будто неприятно. И не в том дело, что неприятно, а как будто неудобство при этом обидное ощущается. Или возмущение. Странное это чувство. Никогда она раньше такого не думала – что от проявления Лёниной жалости возмущаться станет. Она даже сказала ему об этом тихонько, попросила, вернее:
– Лёнь, ты не жалей меня больше, пожалуйста.
– Ладно, Алиночка, не буду тебя больше жалеть, – удивленно улыбаясь, так же тихо ответил он ей. – Да и жалеть тебя теперь, знаешь ли, не за что! Ты у нас будешь совсем здоровой девушкой и сама кого хочешь пожалеешь.
– А ты почему ко мне жить переехал? Только из жалости? Потому что помочь захотел?
– Вот на эти вопросы я отвечать вовсе не буду.
– Ну почему?
– А потому. Переехал и переехал. И не выгонишь теперь. Поняла?
– Но ведь мы же с тобой никогда не будем жить так, как другие. Чтоб все вместе…
– Что ты имеешь в виду, Алиночка?
– Ну, когда люди любят друг друга. Ты жалел меня раньше, а теперь сам говоришь, что жалеть надобность отпала. На самом деле ты ведь жену свою очень любишь, правда? Она у тебя такая красавица! Я ее один раз по телевизору видела, у нее в суде корреспондент интервью брал. Она умная. Я, правда, ничегошеньки не поняла, но она мне очень понравилась. У нее глаза такие, знаешь… Веселые и будто насквозь пронизывающие.
– Так. Давай-ка мы этот разговор закончим раз и навсегда, чтоб никогда к нему больше не возвращаться. Я буду жить с тобой, Алина. С тобой, Борисом и Глебом. Мы будем их растить, воспитывать, учить. Жить, в общем.
– Лёнь, ну ведь неправильно это. Как же… А Лиза?
– А Лиза – сильная женщина. И не нужен я ей ни капельки, успокойся. Ей другой нужен, такой же сильный. А я – нет.
– Она сама тебе об этом сказала? Что не нужен?
– Ну хватит, ей-богу. Все, успокойся. У нас все будет хорошо. Смотри, у тебя даже румянец проклюнулся.
Он улыбнулся ободряюще, провел по щеке кончиками пальцев. Алина отвернулась и вздохнула тяжело. Нет, не понимает он ее. Не понимает, что не нужна больше ей жалость. Не понимает, что жалость здоровой женщине не нужна. А любить он ее все равно не может, потому что Лизу любит. Она это сразу поняла, как только голос его, в телефон направленный, услышала. Потому что другим он совсем стал, когда разговаривал с женой недавно. И глаза в этот момент такие были – грустные.
Она вообще многое теперь понимала по-другому через новое сердце. И, закрыв глаза, видела даже, как пробивается быстрым ростком через скопившиеся за эти полумертвые-полуживые годы незнакомое ранее желание – она тоже хотела любить. И вовсе это, как оказалось, не мерзость. Наоборот, наверное, счастье большое. А когда тебя не любят в ответ – горе горькое. Только с ним надо научиться смиряться как-то. И отпустить Лёню к той, которую он любит. Господи, ну зачем ей теперь это новое, все понимающее сердце? Даже жалко стало того, прежнего, с которым она так хорошо дружила и хорошо договаривалась.
– Алин, я сейчас отойду ненадолго, а ты поспи, ладно? Вернусь, и обедать будем. Поспишь? Обещаешь?
– Иди. Я посплю. Только потом мы еще об этом поговорим, ладно?
– Хорошо, Алина, поговорим. Обязательно. Только запомни одно – я от тебя и детей никуда никогда не денусь. Всегда буду с вами. Мы все нужны друг другу. Ничего, будем жить. Спи, Алиночка.
Она улыбнулась и послушно закрыла глаза, наблюдая из-под ресниц, как он встал со стула и тихонько на цыпочках вышел из палаты. И сразу напало на нее жестокое черное отчаяние, не сравнимое с прежней физической мукой. Как же это больно, когда исподволь накопившаяся в тебе любовь наконец вырывается на свободу и тут же увязает в ответной обидной любви-жалости! Как это больно, когда понимаешь, что любишь так безысходно, безответно. Нет, не надо больше ей никакой жалости! Милой уютной Лёниной жалости, с которой так хорошо мирилось ее старое сердце.
А новое, словно сильно обидевшись, вспыхнуло в груди и начало плавиться больно и горячо и проливаться жидкой кипящей лавой в глотку, в легкие, разом перекрывая дыхание. И моментально взлетела, чтоб не обжечься этой лавой ненароком, душа к самому потолку. И сразу стало легче. Так хорошо, радостно и легко.
Алина с удивлением наблюдала за разворачивающимся внизу действом: вот вбежал в палату перепуганный Лёня, бросился к ее бездыханному, с некрасиво запрокинутой головой телу, затряс его с силой почему-то. Вот вбежала такая же перепуганная медсестричка Галечка, заполошно схватила за руку, пытаясь нащупать пульсирующую точку на запястье. Потом развела руками беспомощно. А Лёня, ее любимый Лёня вдруг рухнул на стул рядом с кроватью и заплакал горько, навзрыд, как маленький. И черные локоны прыгали так красиво по сотрясающейся от рыданий спине. Вот же глупый! Все у них теперь с Лизой будет хорошо, она это отсюда прекрасно видит! И Борису, и Глебу будет с ними хорошо. Потому что Лиза, Лёнина любимая женщина и жена, – она тоже им мать. Отсюда, а вернее, уже оттуда так хорошо все видно. А вот и бабушка ей улыбается, и зовет, и машет руками. Полетели, говорит, внученька, тут и без тебя обойдутся.
Часть 5
Лиза
18
Следующий день для Лизы выдался суетливым и маетным, и, бегая по своим запущенным за неделю вынужденного отсутствия делам, она добралась до дома только к позднему вечеру, вымотанная до самой крайности. «Сейчас в горячую ванну, а потом спать, спать…» – уговаривала она свой уставший организм, который уже капризничал и хныкал, требуя положенного отдыха. Но, въехав в ворота, Лиза вдруг услышала такие знакомые, привычные слуху звуки музыки, доносящиеся со второго этажа дома, где стоял Лёнин рояль, что усталость разом ушла, сменившись предчувствием плохого. Очень плохого. Откуда здесь взялся Лёня? Зачем прилетел так рано? И еще – слишком уж тревожно, громко и яростно кричала Лёнина музыка. Она узнала ее сразу. Рахманинов. Это они, его торопливые, тревожно-мелодичные переливы, всегда так удачно поддавались Лёниному настроению, это они могли звучать одновременно и радостно, и грустно, и восторженно, и предвещать беду.