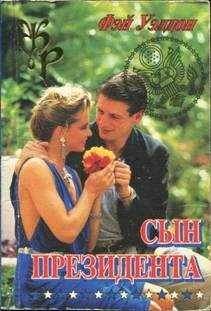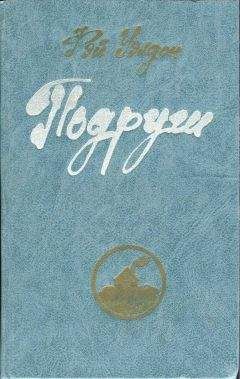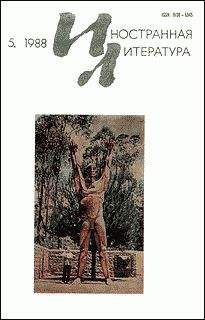Фэй Уэлдон - Сестрички
Заходи, плотник, заходи, паркетчик, автомеханик, бухгалтер, кто там еще? Все сюда. Нам с вами нужны одни и те же ощущения, и то, что я думаю о тебе, это то, что ты сейчас думаешь обо мне. Впрочем, не все ли равно? Поутру мы расстанемся — и слава Богу. А мой болтливый рот не нужно затыкать руками или резким словом, для этого прекрасно послужит твой упругий пенис, и я могу заставить тебя замолчать, заняв твой язык и губы влажными складками вульвы. Я знаю, как облегчить себе душу и разум, знаю, как заставить мысль замереть — если об этом вообще уместно говорить между третьим и четвертым оргазмом.
И, тем не менее, я остаюсь самой собой.
В момент, когда Элис забарабанила в дверь к Виктору, Дженис высвободилась из-под Стэна. Ее взгляд натыкается на шкаф, и она говорит:
— Дверца опять открылась. Ради Бога, сделай с ней что-нибудь. Ты же для этого сюда и явился.
Ее голос уже лишился должной звучности и твердости. Ее волосы, немытые, не уложенные несколько дней, приобрели былой природный блеск. Они густыми, толстыми прядями обрамляют лицо. Это нравится ему и идет ей. Губы утратили унылый изгиб. Она потеряла добродетельный и благопристойный облик. Она снова прежняя Дженис — вальяжная, раскидистая, доступная, требующая много, но и дающая еще больше.
— Все вы, англичанки, бессердечные и злые, — говорит Стэн. — Вы сговорились унижать меня. Вы непременно должны напоминать, что я лишь плотник. Мастеровой всегда пригодится, так что ли?
Но проходят минуты, и он уже напевает, по-прежнему голый возится со стамеской и отверткой, с замком и заклепками. Заклепки градом посыпались на пол, и ему приходится снова прибивать их. Бам-бам. Бам-бам.
Дженис в кровати сидит-любуется. Ей не приходилось доселе видеть такой спорой работы. Живое ремесло на живом примере.
Уэнди. А как же Уэнди? Как поживает Уэнди, пока ее матушка вспоминает былые деньки и бесшабашно восстанавливает утраченные позиции? У Уэнди все отлично, не стоит беспокоиться. Уэнди побывала на репетиции церковного хора, съела полдюжины масляных лепешек и выпила шесть рюмочек сладкого шерри, после чего столкнулась с аспирантом из Милуоки, который собирает материал о современных религиозных традициях в Западной Европе. У парня кудлатая голова и сухощавое тело, он раза в два меньше, чем Уэнди. Лицо у него живое и проказливое, так же как и ум. Уэнди медленно следит глазами за его быстрыми движениями, прислушивается к его быстрой речи, пока он расспрашивает прихожан. Уэнди по натуре терпелива. И в конце концов аспирант подходит и к ней, задает первые общие вопросы, находит их многообещающими и приглашает ее на более подробный разговор. Они садятся в сторонке, и парень начинает расспрашивать Уэнди об отношении к Богу, к церкви, к спиртному, к матери, к отцу, к сексу, осторожно интересуется ее сексуальным опытом и мнением ее родителей на этот счет. Скоро он уже перестает делать записи в своем блокноте и начинает беседу личную, а не профессиональную. И Уэнди, едва ли заметив эту перемену, продолжает болтать так, как никогда не решилась бы, не употреби она нынче столько шерри и не поверив, что может привнести вклад в гуманитарные науки. В этой неожиданной исповеди она открывается полностью и целиком, не утаивает ничего, не лукавит, не представляется иной — получше, повыигрышнее, поинтереснее, как это всегда советовал ей Виктор.
Молодой человек вызвался даже проводить ее домой. Вечер необыкновенно теплый. Они купили сушеную рыбу и чипсы и устроились на лавочке, чтобы перекусить. И парень, зная, что девственность тяготит Уэнди и что в какой-то степени из-за этого отец ее сбежал из дома, освобождает юную деву от груза невинности прямо в кустах позади лавочки. Эпизод этот прошел на редкость гладко и был нарушен только размеренными шагами полицейского и тусклым, равнодушным светом его фонаря. Погодные условия, правда, немного подкачали и заставили парочку торопливо одеться, отчего листья на кустах отчаянно шуршали.
Событие это не оттолкнуло их друг от друга, напротив, поднявшись с сырой земли, они так и пошли рука об руку, прижимаясь друг к другу при малейшей возможности. У входа в родной дом Уэнди спросила у аспиранта имя, после чего пригласила его переночевать в ее постели, на что тот с удовольствием согласился.
Но дом был полон ударов, скрежета и стука. Окно спальни Дженис было ярко освещено, шторы раздвинуты. А на крыльце сидела женщина в очках и красном шарфе. Вид у нее был самый сердитый. Она говорила глухо и невыразительно на извечном наречии низшей касты.
— Мужик мой там с твоей мамкой, — заявила она. — Мебель чинит. Гляди, как стучит. Как бы у нее там потолок не обвалился. Чинит он, как же. Между прочим, он даже не англичанин.
Когда Уэнди, застигнутая врасплох этими событиями, отперла входную дверь, юркая женщина в красном шарфе скользнула внутрь, опередив молодую хозяйку и Кима (а именно так зовут американского аспиранта), и сразу рванула вверх по лестнице, ввалилась в спальню и с налету бросилась бить, кусать и царапать свою соперницу, которая до того момента нагая сидела в кровати. Стэну, Уэнди и Киму понадобилось приложить некоторую силу, чтобы оттащить ревнивицу, которая уже успела сделать немало: Дженис была истерзана, окровавлена и потрясена.
Плотникова жена после этого разрыдалась-распричиталась, так что побитой Дженис пришлось подогревать для нее чай. Стэн проворно оделся и собрался домой, но прежде получил затрещину от жены.
— Я тебя не виню, — заявила она Дженис, — если не ты, так другая. Но нам, женщинам, надо держаться вместе. Каждая получает свое. Но я… я не для себя стараюсь, на себя я уже рукой махнула. Мне детей жалко. Его никогда не бывает дома: либо транжирит деньги на всяких политических сборищах, либо трахает заказчиц, чтобы подольше висеть на каждой работе. А толку-то что? Он цапается с клиентками или с их мужьями — в любом случае ему ничего не платят. Мне глубоко наплевать, чем он занимает свой член, а занятий ему пусть будет побольше, иначе мне на нем торчать с утра до ночи. Видит Бог, я этого не хочу, а у него прямо зуд какой-то.
Плотникова жена вдруг начала осматриваться, будто вспоминая, где находится. Она оглядела горы немытой посуды, темный налет на чашке, откуда только что пила, пол, заваленный пивными пробками, крошками, бумажками, залежи гари на плите и пласты жира на кухонном столе.
— Я бы постыдилась так жить, — сказала она. — Настоящий свинарник. Впрочем, моему только дай в грязной луже поваляться.
И плотничиха ушла.
Дженис, Уэнди и Ким сели вокруг стола на кухне. Киму ужасно хотелось сделать кое-какие записи, но он сдерживал себя.