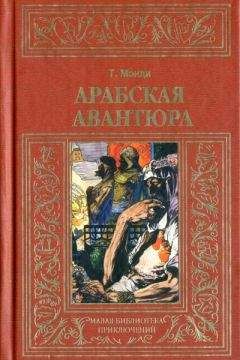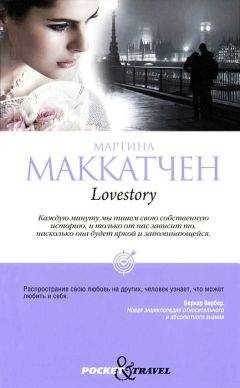Нора Робертс - Цветок греха
Мы стояли и разговаривали словно дома, в гостиной. О чем? Да обо всем – о моем путешествии, об Америке. Он сказал, что он фермер, только очень неудачливый, и это особенно печально, потому что у него две маленькие дочери, о которых нужно заботиться. Когда он рассказывал о детях, грусть исчезла из его глаз, они загорелись радостью. Он очень нежно произносил их имена – Мегги Мэй, Бри. А о своей жене говорил совсем мало.
Аманда прикрыла глаза, с усилием открыла их снова.
– Потом вдруг проглянуло солнце, – со вздохом сказала она. – Мы как будто плыли в его лучах, вместе с тучами, которые постепенно рассеивались. Мы шли по узким тропинкам среди скал и разговаривали, разговаривали, словно знали друг друга всю жизнь. Среди тех высоких грохочущих скал я вдруг почувствовала, что влюбилась в него, незнакомого немолодого мужчину, и это испугало меня. – Аманда метнула пытливый взгляд на дочь, нашла ее руку. – Мне было стыдно перед самой собой, – продолжала она. – Ведь он женат, у него дети. Не знаю, заметил ли он что-нибудь тогда, в то утро, и что почувствовал сам, но в моей душе уже не совсем юной, но все еще невинной девушки появилось ощущение греха. Впрочем, не такое уж сильное, чтобы заглушить возникшее чувство.
Для нее было облегчением, когда пальцы дочери сильно сжали ей руку, переплелись с ее пальцами.
– Не только во мне родилась любовь. Мы виделись еще несколько раз. О, вполне невинно. В пивной, снова на скалах Луп Хеда. Как-то он взял нас с Кэйт на небольшую ярмарку возле Энниса. Но долго так безгрешно все не могло продолжаться. Мы оба были далеко не дети, и то, что испытывали друг к другу, оказалось таким сильным, таким важным для нас и, клянусь тебе, таким красивым чувством, что мы не устояли… Кэйт, конечно, знала… Каждый, кто посмотрел бы на нас, мог легко все понять. И она отговаривала меня, как подруга. Но я впервые любила и была так счастлива, как никогда и нигде раньше. Да, мы стали близки. Он никогда не давал обещаний. Мы мечтали, да, но ничего не обещали друг другу. Его сдерживала семья – жена, у которой не было к нему любви, и дети, которых он обожал.
Аманда облизнула сухие губы, сделала через соломинку несколько глотков, когда Шаннон молчаливо протянула ей стакан. Помолчала, приближаясь к тому, о чем говорить становилось все труднее.
– Я знала, что делала, Шаннон. Скорее я была инициатором нашей близости. Он был моим первым мужчиной, и он вел себя так внимательно, нежно и с такой любовью, что после того, как все произошло, мы оба разрыдались оттого, что поняли: мы обрели друг друга слишком поздно и наше будущее выглядело безнадежно.
И все же мы строили безумные планы: как он, обеспечив жену всем необходимым, уедет ко мне в Америку с двумя дочерьми, и там мы заживем одной семьей. Он отчаянно мечтал о настоящей семье. Так же, как и я. Мы без конца говорили об этом в комнатушке, выходящей окнами на реку, и временами верили, что так оно и будет… Все это длилось целых три недели, и каждый из дней становился чудесней предыдущего. Но мне предстояло расстаться с ним. И с Ирландией. Он обещал, что будет часто приходить на скалы, туда, где мы встретились, и глядеть через воды океана в сторону Нью-Йорка… в мою сторону…
Его звали Томас Конкеннан, и был он, как я уже сказала, фермером… И поэтом.
Аманда замолчала. Шаннон тоже хранила гробовое молчание, а когда задала вопрос, голос у нее был напряженный, неуверенный:
– А ты… Виделись ли вы когда-нибудь потом?
– Нет, – ответила мать. – Я писала ему иногда, и он отвечал… – Сжав губы, она пристально посмотрела в лицо дочери и, решившись, продолжила: – Вскоре после моего возвращения в Нью-Йорк я поняла, что беременна.
Шаннон затрясла головой, как бы не желая верить.
– Беременна? – переспросила она. Снова тряхнула головой и попыталась высвободить руку из пальцев матери. Она догадывалась уже, что будет сказано дальше, и не хотела этого слышать. – Но… Но зачем?
Разве…
– Я была во власти любви. – Аманда еще крепче, насколько хватало угасающих сил, опять сжала руку дочери. – С самого начала это было сильнее меня.
Никогда до того я и не мечтала, что у меня будет ребенок, что я найду кого-то, кто полюбит меня настолько, чтобы захотеть от меня ребенка. Но сама я очень хотела иметь этого ребенка. О, как хотела! И благодарила бога, что он послал мне такого человека. А печаль и сожаление испытывала лишь потому, что понимала: никогда не разделить мне с Томасом того, что принесла нам наша любовь. Никогда… Снова молчание. И потом:
– Его ответное письмо на мое сообщение о ребенке было полубезумным. Он хотел немедленно бросить все и приехать, потому что я не должна быть одна в такое время, он боится за меня. Я знала, что он сделает то, о чем писал. Но также знала, что это было бы непорядочно по отношению к его семье, неправильно. В то время как моя любовь к нему не была ошибкой. Я написала ему свое последнее письмо, в котором впервые солгала, когда сообщила, что ничего не боюсь, что я не одна и собираюсь уехать из Нью-Йорка…
– Ты устала, мама, – Шаннон не хотела больше ничего слышать об этом. Она чувствовала, ее мир покачнулся и нужно что-то сделать, чтобы восстановить в нем равновесие. – Ты говорила слишком долго. Отдохни, и пора принять лекарство.
– Он бы полюбил тебя! – В голосе Аманды была бессильная ярость. – Если бы у него только была возможность. В душе я всегда знала, что он любит тебя, хотя никогда не видел.
– Перестань, мама. Не надо больше… – Шаннон отодвинулась от нее, поднялась со стула. Она чувствовала легкую дурноту, вся кожа, казалось, сделалась сразу холодной и очень тонкой. – Не хочу дальше слушать. Мне не нужно…
– Ты должна, – громким шепотом прервала ее мать. – Прости за боль, которую причиняю, но ты должна знать все. Я уехала, – продолжала она, убыстряя речь. – Мои родные были в бешенстве, когда я сказала им, что беременна. Они велели мне убираться, требовали, чтобы я избавилась от ребенка. От тебя. Там, куда уеду. Чтобы все было сделано тайно и тихо, не вызывало пересудов, не навлекло позора на меня и на семью. Но я готова была умереть, только бы сохранить тебя, плод нашей с Томом любви. В своем доме я услышала много страшных слов, угроз и обвинений, приказов и требований. Они лишили меня средств к существованию. Отец сумел наложить запрет – он понимал толк в этих делах – на мой счет в банке, где лежали деньги, оставленные мне бабушкой. Денежные дела всегда были для него главными в жизни. Ведь деньги дают силу и могущество.
Чувствовалось, как ей трудно говорить, но она превозмогла себя.
– Я ушла из дома без сожаления, с теми деньгами, что оставались у меня в сумочке, с одним-единственным чемоданом.