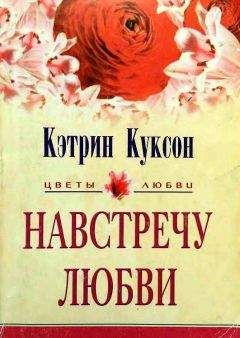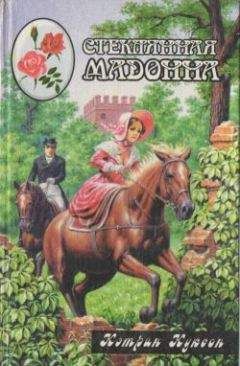Кристина - Куксон Кэтрин
— А я опять начну работать у миссис Дюрран.
— Правда, дорогая?
Отец тем временем снял с себя всю одежду, оставшись лишь в коротких трусах.
— Да, она говорила, что, если мне будет нужна работа, я просто должна ей сказать об этом.
До замужества моя мать служила в Брамптон-Хилле у миссис Дюрран, но хотя с тех пор прошло восемь лет, время от времени от ее бывшей хозяйки приходили посылки с одеждой.
Отец залез в ванну и начал намыливаться. Помогая отцу, мать успокаивала и себя, и его.
— Не беспокойся. Мы справимся.
При этих словах вошла тетя Филлис. Увидев отца в ванне, она отвела глаза и обратилась неровным, дрожащим голосом к матери:
— Что теперь делать? Это конец. Они никогда больше не откроют шахту. Это только предлог. Шахта старая.
Мать повернулась к плите и сняла большое глиняное блюдо. Бросив отцу: «Осторожней, дорогой», она поставила блюдо в центре стола. Потом, медленно вытерев руки о тряпку, спокойно сказала:
— Что ж, тогда придется найти другое занятие.
— Какое — голодать?
— Почему голодать? Руки-то при нас. И для женщин найдется какая-нибудь работа.
— Ты, наверно, поедешь к миссис Дюрран. Лично я не могу представить себя в качестве служанки, более того, не хочу даже и пытаться.
— Твое дело, — мать все так же спокойно продолжала вытирать руки, и в кухне воцарилась тишина — лишь из ванны доносилось бульканье. Тонким голосом, в котором звучали стальные нотки, тетя Филлис объявила:
— Мы поищем себе работу где-нибудь в другом месте.
Отец повернулся и, глядя через плечо на тетю Филлис, спросил:
— А ты собираешься ехать с ним, Филлис?
Та вместо ответа смерила его долгим взглядом и, резко крутнувшись на каблуках, вышла, с шумом захлопнув дверь.
Мать получила у миссис Дюрран работу — три раза в неделю по утрам. Отец, следуя ее совету, взял небольшой участок возле леса, и у нас всегда была картошка и другие овощи. Наш стол остался прежним, а благоухание из кухни все так же наполняло дом. Ничего не менялось, по крайней мере, три года, разве что отец уже не отдавал нашу обувь в ремонт, а занимался этим сам: вылезавшие изнутри гвозди часто рвали мои чулки.
У подножия холма, где находился мост через реку, теперь можно было увидеть больше мужчин, чем прежде. Кто-то сидел просто так, кто-то делал вид, что ловит рыбу. Если даже удавалось что-то поймать, все приходилось делать украдкой — не имея лицензии на ловлю рыбы, можно было нарваться на неприятности.
Вместо угля отец приносил из шахты в мешках угольную пыль. В дни выпечки хлеба матери поначалу приходилось сокращать время работы у миссис Дюрран, пока ей не пришло в голову смачивать угольную пыль и раскладывать ее по жестяным банкам. Собирать банки было нашей с Ронни обязанностью.
У наших соседей дела шли хуже. Хотя отец взял участок на двоих с дядей Джимом, у того явно не лежала душа к новому занятию. Я слышала, как отец говорил, что дядя Джим работает лопатой так, словно помешивает чай десертной ложечкой. Это казалось мне странным, потому что отец раньше отзывался о нем как о лучшем забойщике в шахте.
Не проходило почти ни одного дня, чтобы моя мать не накормила Дона и Сэма. Они стали для меня как бы частью нашей семьи. Но однажды все окончилось весьма неожиданным образом.
В последнее время мать и тетя Филлис часто говорили о здоровье Дона, докторах и больницах. Все было окутано тайной, но как-то вечером Дон присоединился к нашей компании у реки. Мы знали, что тетя Филлис водила его к врачу — нам сказал об этом Сэм. В тот вечер Ронни и Сэм, как обычно, плавали, а я бродила по воде вдоль берега. Дон с приветственными криками сбежал с холма. Стоя на берегу, запыхавшийся и возбужденный, он едва мог говорить. Когда мы окружили его, он взволнованно объявил нам, что его кладут в больницу.
— И знаете что? — проговорил он. Мы молчали, не отрывая от него глаз. — Меня будут резать — вот здесь и здесь, — он указательным пальцем сделал два режущих движения в паху, и когда мое лицо исказилось от ужаса, добавил — Во какой будет разрез, — и отмерил пальцами примерно девять дюймов.
При мысли о том, что ему придется испытать, я почувствовала, как у меня в желудке все переворачивается.
В тот вечер я сказала матери:
— Бедного Дона будут резать, мамочка.
— Чепуха. Кто тебе сказал?
— Он сам.
Может, мне это только послышалось, но мать, по-моему, тихонько произнесла: «И очень хорошо — это ему на пользу».
Дона отправили в больницу, а через несколько дней он вернулся, овеянный славой. Без него я чувствовала себя даже как-то лучше. Сэм отличался от своего брата. Он был более разговорчивым, чаще смеялся и даже выдал как-то за столом байку об ирландцах. Мать едва не поперхнулась — как от самого анекдота, так и от удивления.
В тот день после обеда мы отправились на прогулку, но не к реке, а в лес., собирать ежевику. Как раз подошло время этой ягоды, мама хотела наделать из нее побольше желе. Но мы все никак не могли приступить к делу, потому что разинув рты слушали рассказ Дона о больнице, о том, что с ним случилось там. Ничто не могло остановить его повествования, и лишь когда он лег на траву и принялся производить над собой воображаемую операцию, Ронни охладил его пыл.
— Вставай и не говори глупостей: если бы они все это с юбой проделали, ты бы уже давно помер!
Дон поднялся, и мы без лишних слов начали собирать ежевику. Но я чувствовала, что он обиделся на нашего Ронни. Мне стало жалко Дона, я тоже не любила, когда мне не верили или не смеялись какой-нибудь моей шутке. Поэтому я начала собирать ягоды неподалеку от него и шепнула:
— Я верю тебе, Дон.
Он посмотрел на меня, потом, взяв за руку, увел в кусты и тоже шепотом спросил:
— Правда?
Я кивнула и с чувством проговорила:
— Правда, верю.
Не выпуская моей руки, он бесшумно повел меня в самые заросли ежевики.
— Послушай, ляг на траву, и я покажу тебе, что они там со мной делали, — шепотом произнес он.
— Мне? Лечь?
— Да. Я покажу, что они делали со мной в больнице.
Он с силой надавил мне сверху на плечи, и я отпрянула от него.
— Нет, нет, не лягу. Я верю тебе, но ложиться не собираюсь.
Глядя на выражение лица Дона, я почувствовала, что меня трясет, в желудке начались спазмы, словно кто-то непрерывно сжимал его рукой.
— Ложись.
— Не буду.
— Ляжешь — я тебя заставлю.
— Я позову Ронни.
Взгляд Дона метнулся в сторону кустов, и вдруг он резким толчком опрокинул меня навзничь. Я тут же пронзительно закричала от боли, потому что колючки ежевики, казалось, прошили каждую частичку моего тела.
Первым появился Сэм. Он поднял меня, и в это время подошел Ронни.
— Вечно тебя угораздит. А где твоя ежевика?
Те несколько ягод, что лежали у меня в банке, рассыпались по траве, я заревела.
— Ладно, ладно, кончай нюнить. Пошли.
Но сказано это было ласково. Ронни почти всегда был ласков со мною — как я с Сэмом. Нас троих словно соединила нить гармонии и дружбы, а Дон напоминал иглу, через ушко которой эта нить была протянута. Конец иглы был злобно-острым. В какой степени? Мне предстояло узнать это через несколько часов.
Я сидела с родителями на кухне, когда в подсобку вошла тетя Филлис. Она всегда гремела щеколдой, поэтому, даже прежде, чем тетя появилась, я догадалась, кто идет.
Когда она остановилась на пороге кухни, мы поняли, что случилось нечто неприятное. Тетя Филлис крепко сжала тонкие губы, и по обеим сторонам рта у нее появились маленькие выпуклости, словно она надувала воздушный шарик.
— Мне надо поговорить с тобой, Энни.
Мать взглянула на меня и сказала:
— Тебе пора спать.
— Я еще не умывалась, мама, — ответила я, глядя на тетю Филлис.
— Ну так иди и умойся.
Взгляд тети Филлис, когда я проходила мимо нее, был так злобен и так тяжел, что, казалось, придавил меня к полу.
Ведро для чистой воды было пустым, поэтому я отправилась во двор, где находилась колонка, и нарочито медленно принялась отворачивать кран. Мне не хотелось возвращаться в дом, пока тетя Филлис там. Когда ведро наполнилось до краев, я поняла, что воду придется немного отлить, иначе не донести. В этот момент раздался резкий, жесткий голос матери: