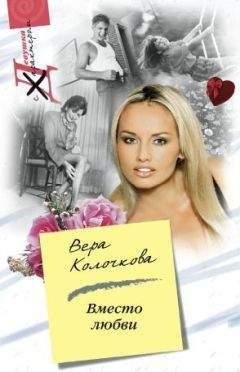Вера Колочкова - Рандеву для трех сестер
– А почему? Только доброты и женской порядочности ради?
– Нет. Плевать мне было на эту порядочность. Просто… Просто захотелось мне так – воле его не подчиниться. Вот ничего с собой не могла поделать! Сильная я была тогда девушка. Он решил из семьи уйти, а я сказала – нет. Только ради этого самого «нет» и сказала. После, конечно, жалела ужасно. Даже в другой город переехала, чтоб все мосты сжечь за собой окончательно. И Бориса увезла. А потом еще раз переехала. Отправила ему с оказией письмо с фотографией сына и исчезла. А недавно он меня снова нашел. Для того чтоб на похороны свои пригласить…
– Да уж, страсти какие, – не отрывая затылка от дивана и глядя в потолок, проговорила Инга. – Настоящие живые страсти. Будто вы обиду свою на отца сейчас, как на живого, выплескиваете. Вам не кажется?
– Инга, а откуда он знал, когда умрет? – вдруг ответила вопросом на вопрос Люба. – Он позвонил и назвал четкую дату, когда состоятся его похороны. Это было два месяца назад. Он что… знал?
– Выходит, что знал. Он всегда и все знал.
– Но… Этого не может быть! Вы же понимаете! Или…
– Никаких или, Люба. И давайте не будем об этом. И вообще – разговор у нас с вами странный пошел. Некорректный. Непоминальный.
– Хорошо, Инга, не будем. Наверное, ты права. Ты иди, девочка. Я и впрямь хочу здесь одна побыть. С ним. В его кабинете. Доиграть в свои одинокие женские игры…
Сев за большой письменный стол, она провела рукой по темному дереву столешницы, потянулась, нажала на кнопку старинной зеленой лампы. Свет ярким снопом брызнул ей в лицо, обнажил глубокие морщинки – гусиные лапки, отвисшие слегка щеки, слезные припухлости под глазами. И все равно она была очень красивой, эта женщина. Сильной была, красивой и очень, очень несчастной. Инга еще посидела тихо, пристально вглядываясь в ее застывшее лицо, потом поднялась, пошла на цыпочках к двери.
– Инга, а можно мне здесь остаться на ночь? – ударил ей в спину резкий голос Любы.
Вздрогнув, она обернулась к ней от двери, пожала плечами нерешительно.
– А не боитесь?
– Ну, чего мне теперь бояться… – усмехнулась Люба. – Это раньше надо было бояться… Бояться, что никогда не увижу его больше…
– Хорошо. Я потом приду, постелю вам здесь.
– Да не надо ничего стелить. Я не буду спать ложиться. У нас с Борисом билеты на ранний утренний поезд взяты, мы тихо уйдем, вас не разбудим. Скажите там Боре, чтоб тоже сюда шел, как с Вольским своим наговорится. Не бойтесь, мы ничего здесь не тронем. Просто посидим…
– Хорошо. Я скажу.
Инга вышла в коридор, закрыла за собой дверь, постояла немного, привалившись к ней плечом. В доме было тихо, только снизу, из кухни, слышались еще женские голоса, да где-то совсем рядом непрерывно пищала до боли знакомая механическая мелодия, очень жалобная и тревожная. Будто котенок мяукал. Но откуда здесь мог взяться котенок? Сроду в доме кошек не водилось – отец их терпеть не мог. Инга постояла еще немного, наморщив лоб, прислушиваясь к тревожным звукам, даже потрясла головой для верности – вдруг просто в ушах звенит. Потом, разом спохватившись, рванула к себе в комнату, распахнула дверь – точно, это ж мобильник ее надрывается! Бедный, забытый, поет себе и поет свою незатейливую мелодийку, дергается тихонько в конвульсиях на столе…
– Да! Привет, Родька…
– О господи, Инга! Ну ты где? Я вчера звонил, сегодня целый день звоню – ты как провалилась куда!
– Да я мобильник в комнате забыла… А что? У вас случилось что-то?
– Да ничего у нас не случилось. Все у нас в полном порядке. Аньку встретил, она как раз домой пришла, сразу под душ прыгнула. А ты как? Хоть бы позвонила, поинтересовалась, как мы тут…
– А у меня папа умер, Родька.
– Как умер? Когда?
– Вчера. В два часа дня. А сегодня уже похоронили. Так что некогда мне было тебе звонить, сам понимаешь.
– Прости, Ин. Я ж не знал…
– Ну вот, теперь знаешь.
– С Анькой хочешь поговорить? Она тут рядом, из душа выскочила.
– Давай…
– Мамуль, здравствуй! – нежно-переливчато зазвучал колокольчиком в ухо Анюткин голосок. Не детский уже, но и не взрослый еще – так, малиновый юный звоночек.
– Здравствуй, Дюймовочка! – расплылась в теплой улыбке Инга. – Ну как ты там? Как съездила?
– Ой, классно! Нас так принимали, как больших! Три раза на бис с «Арагонской хотой» вызывали! Ты ведь видела эту вещь, да? Я там солирую, помнишь?
– Да помню, помню, Анют. Как я могу не помнить? Ты у меня везде самая красивая, самая талантливая…
– Мам, а я не поняла – а кто умер? Дядя Родион сказал – кто-то умер…
– Дедушка твой умер, Аня. Вчера еще.
– Ой, как жалко… А ты что, плачешь, мамочка?
– Да. Плачу, конечно. Я сегодня целый день плачу.
– А когда домой приедешь?
– Если завтра утром на поезд сяду, то послезавтра буду дома. Я так соскучилась по тебе, дочь…
– И я, мам. И бабушка тоже.
– Какая бабушка? Ты что… бабушку Светлану имеешь в виду?
– Ну да. Представляешь, я сегодня приехала, а она меня обняла и поцеловала. И еще – заплакала. Говорит – прости меня, внученька. И мама твоя, говорит, пусть меня простит. Мам, а что это с ней, а? Как говорит наш балетмейстер – чудны дела Твои, Господи…
– Правильно он говорит, балетмейстер твой. И я так же думаю, доченька. Ладно, приеду – разберемся и в слезах, и в прощениях. Дай мне еще дядю Родиона…
– Мам, а он теперь всегда с нами будет жить, да?
– С чего ты взяла? Нет, конечно. Мы с дядей Родионом просто друзья, он меня выручает так. Тебя вот встретил…
– Да? Жаль. Жаль, что просто друзья. Ладно, передаю ему трубку…
– Ин, ты держись там как-то, ладно? Я понимаю, что тяжело, но ты держись. И ни о чем не беспокойся – здесь все у тебя идет своим чередом.
– Так уж и своим? Что-то не верится даже. Анька вон чудеса какие-то рассказывает…
– Да никаких чудес нет. Все обычно. Как и должно быть. Я так понял, ты послезавтра приедешь?
– Ага. Постараюсь. Очень домой хочу.
– Давай. Я тебя встречу. Как сядешь в поезд, позвони. Ну, пока?
– Пока, Родька. Спасибо тебе.
– Да не за что. Чего уж там. Мы ж друзья, как ты изволила выразиться. Все, отбой, подруга.
Нажав кнопку отбоя, Инга долго еще сидела на своем диване, беспорядочно всхлипывая. Выходить из комнаты не хотелось. Не хотелось выползать из теплого и мягкого облака разговора с дочерью и Родькой, хотелось сидеть в нем и греться остатками их слов и интонаций, будто плавающих вокруг нее невидимой защитой. Говорят – все хорошее в твоей жизни видится на расстоянии. Как и плохое тоже. Она вот всегда любовь свою школьную за некую алмазную драгоценность почитала, за то самое хорошее, что подарила судьба. Грелась от него. И носила в себе, заперев на три замка, и лелеяла бережно. Доставала иногда, чтоб пылинки сдуть, полюбоваться да снова убрать-закрыть в потаенное местечко. А теперь что? Куда оно делось-то, это хорошее? Увидело живьем предмет, из которого проистекало, – Севку Вольского – и тут же завяло-скукожилось? Странно как. Вроде наоборот должно быть. Или мы сами себя так умело обманываем, придумывая ложные драгоценности? Думаем – бриллиант в душе носим, думаем, что именно им напитываемся для тепла и света, а потом выходит, что это и не бриллиант вовсе, а обычная стекляшка. И тепло твое, выходит, тоже обманно-стеклянное, и свет ты даешь стеклянный…