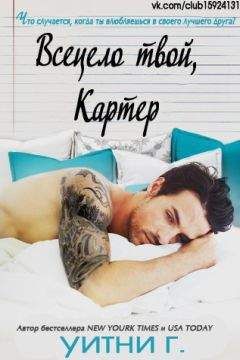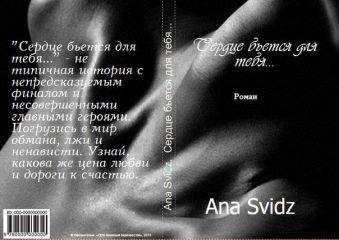Наталья Нестерова - Ты не слышишь меня (сборник)
А Таня почти не думала о бывшем муже. Все зло мира сосредоточилось для Тани в Журавлевой. Таня не подозревала, что может испытывать такую испепеляющую ненависть, почти маниакальную, не отпускающую ни днем, ни ночью. Журавлева, наделенная властью судить людей, не могла не видеть, на чьей стороне правда. Слепой увидел бы, глухой услышал бы. Журавлева цинично, по закону – не придерешься, сотворила произвол. Журавлева виновата в том, что Танины родители едва не умерли от горя, постарели на десяток лет, превратились в брюзжащих старичков, разочарованных в системе правосудия, не верящих в справедливость. Журавлева виновата в том, что Таня и сын спят на раскладушках, а старенькие родители – на тесном диванчике. В пятнадцатиметровую комнату просто не втиснуть больше мебели. И никаких перспектив, Танина зарплата даже ипотечный кредит в банке не позволяет получить. Мама иногда плачет: «Как хорошо мы жили в старой квартире, она мне снится». В маминых слезах виновата Журавлева. Папа говорит: «Скорей бы в ящик сыграть, вам легче будет». И в этом виновата Журавлева.
«Виновата, виновата, виновата!» – бухало в голове.
«Да что же это со мной? – думала Таня. – Я сама виновата в том, что вышла замуж за Вадима, была наивной доверчивой простушкой. Недостойно перекладывать свою вину на другого. А достойно судить людей нечестно? Вот опять! Это какой-то злостный душевный псориаз – чешется, покрывает сознание язвами и не поддается лечению».
Ненависть к Журавлевой терзала Таню несколько месяцев. Лишь благодаря работе и необходимости поддерживать родителей, изображать перед ними оптимистку, которая верит в светлое будущее и врет, что в банке обязательно дадут ипотечный кредит, вот только экономический кризис пройдет, Таня выкарабкалась из мучительной депрессии. Через год она вспоминала о Журавлевой как о страшном сне – было, прошло, надо жить наяву, а не в дурмане ночных кошмаров. Через два года почти не вспоминала о Журавлевой. Сволочь и сволочь, Журавлевых много, что ж, теперь из-за них вешаться? Хотя Татьяна отчетливо представляла, что слабовольный человек мог бы и повеситься. Несправедливость для кого-то бывает страшней войны.
Через два с половиной года Татьяна обнаружила Журавлеву в палате своего отделения. И ненависть, не растворившаяся, а, напротив, устоявшаяся, мутная, набродившаяся, – ударила, как взрыв болотного зловонного газа, не продохнуть.
3
Главврач попросил Татьяну зайти к нему в кабинет после пятиминутки. Кирилл Петрович был хорошим хирургом и отличным организатором. Последнее качество для руководителя важнее. Одно время министерство здравоохранения возглавлял оперирующий хирург. Стране в целом и медикам в частности не нужен практикующий министр-хирург. Те четыре-пять часов, которые он простоит у операционного стола (плюс передвижение по московским пробкам), важнее потратить на организацию дела во вверенном ему министерстве и на наведение порядка с охраной здоровья граждан в государстве.
– Журавлеву видела? – спросил Кирилл Петрович.
– Видела. Я оперировать ее не буду. – Татьяна решила сразу поставить точки над «и».
– Как это не будешь? – удивился главврач.
– У нас есть другие хирурги.
– Танька, ты с ума сошла?
Таньками, Вовками, Машками, Сережками главный называл их только в минуты большого расположения, например, после особо выдающегося трудового успеха, то бишь блестящей операции. А тут назвал Таню простецки от растерянности.
– Мне, – потыкал Кирилл Петрович в телефонный аппарат, – по поводу этой Журавлевой только Президент страны и Папа римский не позвонили.
Таня вздохнула и отвернулась, всем видом показывая непреклонность.
– Личное? – допытывался главврач. – У тебя с этой бабой связано что-то личное?
– Да.
– А что? – спросил Кирилл Петрович с любопытством, которым страдала записная сплетница Ира, но которое странно было видеть у главврача.
– Неважно.
– Очень даже важно! Колись!
– Извините, Кирилл Петрович.
– Ты меня под монастырь подведешь! Уперлась она! Ты знаешь, что Перепелкин (это был главный онколог Москвы) сказал Журавлевой? Он ей сказал: «Если бы у меня были сиськи, в которых завелась бяка, я доверился бы только Назаровой».
Если Кирилл Петрович и хотел польстить, у него не получилось. Похвала прозвучала как обвинение.
Таня подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза:
– Журавлеву я оперировать не буду!
– Будешь как миленькая! И прооперируешь, как богиня.
– Нет! Завтра я напишу заявление на отпуск. Вернее, послезавтра, завтра операция сложная, больная давно ждет!
– Видела отпуск? – Главный врач показал Тане кукиш.
– Видела. Возьму больничный, имею право, как любой российский гражданин.
– Ты не гражданин! – рявкнул Кирилл Петрович. – Ты хирург! Тебе капризы не положены. – Он сбавил тон: – Делаешь пластику Журавлевой, и я отправляю тебя на международный конгресс в Париж. На неделю!
– Спасибо, нет!
– А через три месяца слет онкологов в Милане. Не твоя специализация, зато шопинг там, говорят, фантастический.
– Не трудитесь меня подкупить.
Кирилл Петрович вскочил, обежал стол, распахнул дверь кабинета, заорал:
– Лена! Нам сколько чая ждать? Ты задницей к стулу прилипла?
Никакого чая он до того не просил и вообще не имел привычки чаи гонять с подчиненными. Только с высокого полета родственниками пациентов.
Лена принесла чай на подносе, украдкой посмотрела на Таню: держитесь! Секретарь главврача дружила с Ирой, они были в курсе всех больничных сплетен, обладали некоей теневой властью, которую, впрочем, никогда не использовали во вред любимым докторам. То, что доставалось нелюбимым, как правило бесталанным, не в счет.
Кирилл Петрович стоял у окна, смотрел на улицу. Водил пальцем по стеклу. Не слышал противного скрипучего звука, думал о чем-то своем. Вспоминал?
Он отошел от окна, сел не в свое начальственное кресло, а напротив Тани за приставной столик. Крутил чашку с чаем на блюдце, высчитывая скорость вращения, при которой напиток не выплеснется. Таня, никогда прежде не видавшая Кирилла Петровича в таком состоянии, уж собралась рассказать ему про свою ненависть к Журавлевой.
Не успела. Заговорил Кирилл Петрович.
– После института меня распределили в Брянск. Повезло, потому что там был классный хирург, Виктор Александрович Протасов, который поставил мне руку, научил уму-разуму. И богатая практика – пять щитовидок в день, три опухоли желудка или легкого.
«Повезло, – мысленно согласилась Таня. – В столичных клиниках ребята по десять лет „стоят на крючках“, то есть держат края вскрытой полости, наблюдают с завистью, как оперируют шефы».