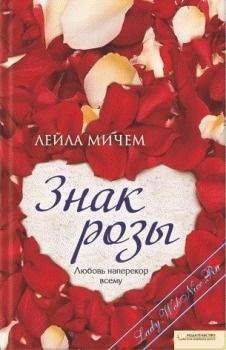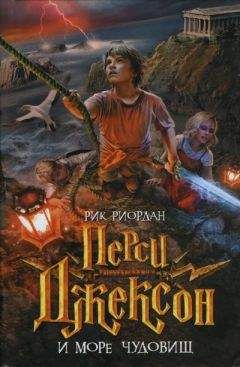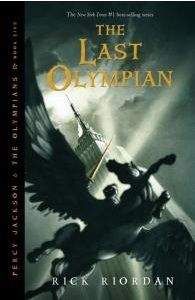Ирина Степановская - На скамейке возле Нотр-Дам
Ему, наверное, лет сто, не меньше, – я инстинктивно отодвинулась подальше.
– Простите, мадемуазель, если помешал, – сказал старик и внимательно посмотрел сначала на меня, а потом на мою газету.
– Нет, ничего. – Как-то уже было неприлично снова закрывать глаза.
– Простите, мадемуазель. Вы, наверное, русская?
– Откуда вы знаете?
Он засмеялся и сухим сморщенным пальцем указал вниз и вбок:
– Газета.
Я посмотрела: действительно, из-под края моего пальто явственно было видно название без первых нескольких букв: «…овский комсомолец».
Я согласилась:
– Да, русская.
– Откуда вы?
– Из Москвы.
Старик посмотрел на меня нежно, будто я владела сокровищем. Его лицо, все в темных пятнышках и морщинах, сморщилось, как у маленькой обезьянки. Палец, указывающий на газету, дрожал:
– И эта газета из Москвы?
– Наверное. Из самолета.
Он повернулся ко мне с улыбкой. Сквозь прорезь его рта виднелись очень белые вставные зубы.
– Вы не подарите мне ее?
Я немного опешила. Газеты мне было совершенно не жалко, но неудобно было вытаскивать из-под себя. И, кроме того, влажная скамейка… Я развела руками:
– Но я на ней сижу.
Он замахал на меня смуглыми лапками.
– О, я вас не тороплю! Нисколько! Просто когда будете уходить, оставьте газету на скамейке.
Черт бы побрал этого старика! Теперь мне уж никак было не сосредоточиться на своих воспоминаниях. Он заметил мое недовольство.
– Простите еще раз, – сказал он огорченно. – Я вас отвлек от ваших мыслей.
Я внутренне скривилась, но в то же время посмотрела на старика внимательней. У него был мутный от времени взгляд, но в целом глаза его были ласковыми. Он был совсем не похож на тех противных, занудливых стариканов, пара-тройка которых жила в моем подъезде. Те могли бы меня запросто придушить в лифте просто за то, что я была их гораздо моложе.
Машинально я поправила полу своего пальто, и шелковистая ткань под пальцами напомнила мне о даме, это пальто подарившей. Незнакомая женщина сделала мне дорогой подарок, а я не хочу поговорить с этим человеком несколько минут. Мне стало стыдно.
– Вы любите Россию, месье? – повернулась я к старику и увидела, что от моего вопроса у него слегка зашевелились белые волоски на висках.
– Мадмуазель, я русский! Правда, в России никогда не был, но я люблю русское. В том числе читать русские газеты.
– Что же интересного в газетах? – Я даже не помнила, когда в последний раз читала газету. Этот «… комсомолец» и то не читала. Просто зачем-то засунула его в сумку. Наверное, я вообще это сделала машинально, ничего не соображая. В Париж я летела сама не своя.
– Мне все интересно! – Он как-то хитренько взглянул на меня, и я увидела, что глаза у него не русские – мутно-коричневые, миндалевидные.
– Вы, наверное, потомок эмигрантов первой волны? – из вежливости спросила я.
– По-то-мок? – сказал он это слово нараспев. – Я – не потомок. Я – русский.
– Ну, ваши родители, наверное, из России? – Вообще-то мне не было никакого дела, откуда его родители.
Он немного замялся.
– Не знаю, как сказать. Мои родители – русские. Из Харькова. Харьков до революции принадлежал России, а сейчас – Украине. Так что я не знаю, как правильнее сказать, откуда я родом. – Он помолчал. – Я уже давно не работаю. Я прихожу сюда знакомиться с русскими туристами.
– Зачем? – вырвалось у меня.
– Чтобы не забыть русский язык.
– Вы преподаватель?
– Нет, мадмуазель. Я просто не хочу забыть русский язык. Потому что я – русский.
Угу. Хорошо, что он никогда не был в России. Он мог бы разочароваться. Насколько я знала, его соотечественники в последнее годы разговаривали на бог знает каком языке, только не на том русском, который он, по-видимому, любил.
– Неужели у вас в Париже нет русских знакомых? Я имею в виду таких людей, кто живет здесь, как и вы, с рождения?
Он отвернулся от меня и посмотрел куда-то в даль сквера.
– Есть, мадмуазель. Но не все хотят иметь со мной «коннесанс».
– Знакомство? Почему?
По-моему, он нарочно сделал вид, что заснул. Я наклонилась и заглянула ему в глаза. Но он не спал, он смотрел в глубь себя.
– Месье? Все в порядке?
– Вам скажу. – Он испытывающе взглянул на меня. – У вас красивое, доброе лицо.
Красивое, доброе лицо? У меня?
Старик спросил:
– Вы знаете, на каком месте сидите?
Я задумалась над его вопросом. Что-то в этом человеке все-таки располагало. Я знаю, вы можете подумать «Кукушка хвалит петуха…» и тому подобное. Нет, это было вовсе не «красивое, доброе лицо». Я уже не жалела, что он отвлек меня от моих мыслей. Наоборот, я уже почти хотела рассказать ему свою историю. Она еще не рвалась из меня наружу, но я уже перестала относиться к ней, как к великой тайне. Я собиралась сказать ему, что в последние несколько недель моей жизни я только и делаю, что рвусь сюда, чтобы воскресить в своей памяти счастливые минуты. Но он не дождался моей исповеди. Следующий его быстро заданный вопрос снова поставил меня в тупик.
– Вы такая юная, – я уже готова была поверить, что с высоты восьмидесяти или девяноста лет мои собственные тридцать четыре могут показаться детским садом. – Вы, наверное, не знаете, что такое коллаборационизм?
Я удивилась. Пожалуй, даже больше, чем если бы он спросил меня о том, что такое коммунистическая партия.
Вообще-то я что-то слышала о коллаборационистах – тех людях, кто сотрудничал с немецким оккупационным режимом в годы Второй мировой войны. Но кого сейчас это может интересовать? Даже моя мама родилась уже после войны. Я попыталась вспомнить, что я когда-либо видела или читала об оккупационном Париже. Люди сидят в уличных кафе – точно так же, как и до войны, только много немецких офицеров. Открыты все кабаре, соглашательское правительство заседает где-то в Виши – на память пришла марка известной косметической фирмы…
Старик смотрел на меня со странной настойчивостью во взгляде.
– Вижу, вы все-таки не знаете, на каком месте мы с вами находимся, – повторил свою странную фразу старик.
Я огляделась. Место выглядело прелестным: дождика не было и в помине, сквозь поредевшую осеннюю листву опять светило солнце. Вокруг нашей скамейки снова ходили во всех направлениях влюбленные парочки, воркуя, как все еще подбирающие крошки голуби.
– Да. Вы ничего не знаете, – все бормотал он.
Я молча ждала.
– Мадмуазель, – он снова хитро посмотрел на меня. – Двести лет назад на этом самом месте был морг. Я видел его изображение на старинных гравюрах. Мрачное здание.
Меня передернуло. Я не могла поверить: элегантный, так я бы его назвала, сквер позади самого знаменитого собора Парижа – и вдруг… Невольно я отодвинулась от своего собеседника. А он, наоборот, нагнулся ко мне, взял меня за руку своей птичьей лапкой и зашептал мне в лицо, брызгая слюной.