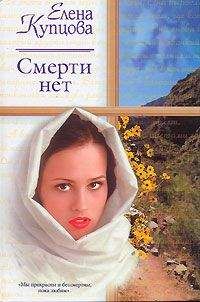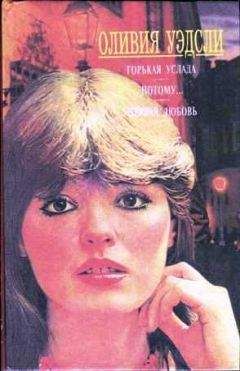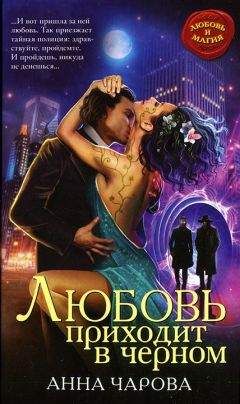Елена Купцова - Другая жизнь
— Это он сидит? — проговорила она, пересиливая смех и вытирая слезы. — Да он дома почти не бывает, все время на работе.
— Но народ-то этого не видит! — В полемическом запале лицо Сидоркина раскраснелось и пошло пятнами. — А что он видит? Видит нового барина, на которого надо горбатиться!
— Я ведь никого не заставляю, — спокойно возразил Вадим. — Все происходит на сугубо добровольной основе. И потом, кому было бы лучше, если бы я эту усадьбу не купил? Вы же знаете, что здесь творилось. Разруха и запустение. Так бы все и развалилось. Сами же только что сказали, что хорошо здесь стало. Или как это? — Он защелкал пальцами, припоминая. — Вкусно. Вот-вот, вкусно. Ваши слова?
— Ну, мои, — нехотя признал Сидоркин. — Все равно это — частная собственность. А людям обидно.
— Я их могу понять. И посочувствовать. Но помочь, извините, ничем не могу. Есть деньга — покупаю дом, нет денег — не покупаю. Все просто. Я их ни у кого не отнял и не украл. Я их заработал и пользуюсь этим. Согласитесь, глупо было бы зарабатывать деньги для того лишь, чтобы складывать их в наволочку. Маша украдкой вложила руку в ладонь Вадима. Он крепко сжал ее пальцы. Она искоса посмотрела на его четко очерченный профиль, на решительно выдающийся вперед подбородок. У виска, прямо под шрамом, часто-часто билась голубоватая жилочка. Ей вдруг до боли захотелось прижаться губами к этой жилочке, утешить ее, успокоить. «Милый мой, смелый, любимый, единственный человек! Как трудно приходится тебе иногда».
— А он прав, Федор Иваныч. — Старый учитель пошевелился в кресле, закинул ногу на ногу и обхватил длинными костлявыми пальцами острую коленку. — У него деньги работают, в том числе и на нас с тобой, как ты выражаешься, на народ. — Он принялся загибать пальцы. — В Апрелеве школу отстроил — раз! Учителям надбавку к зарплате выдает — два! На молочную ферму денег подкинул — три! И твое отделение не обидел. Какую машину пригнал, да еще с рацией!
— «Форд», — машинально сказал Сидоркин. — А я разве не благодарен? От всего отделения благодарен.
— И вообще давно пора уяснить, что чем больше богатых людей, тем страна богаче, — продолжал Петр Алексеевич.
— При нормальных, конечно, законах, — вставил Вадим.
— Естественно, но придем же мы к этому когда-нибудь. Постепенно, но придем.
— Ну вот, — улыбнулась Маша. — Кажется, все выяснили. Давайте лучше купаться.
Маша включила настольную лампу. Мягкий оранжевый свет разлился по комнате, осветил усталое лицо Вадима, его большие руки, раскинутые по спинке дивана. Он уже развез гостей. Пончик сладко посапывал у себя наверху.
— Наконец-то мы одни. — Он протянул к ней руки. — Иди ко мне, Машка. Я до ужаса соскучился.
Маша скользнула к нему на колени, взъерошила волосы, легко провела пальчиком по шраму на виске, заглянула в глаза.
— Господи, как ты устал, — сказала она, пряча голову у него на груди. — У нас хоть в этом-то году отпуск будет?
— Не уверен. Может быть, осенью, а может, и нет.
— Барин? — насмешливо спросила она.
— Барин. Тот еще барин.
Он прижал ее к себе. Маша закрыла глаза, прислушиваясь к его дыханию. «Это несправедливо, — подумала она. — Мы так нужны друг другу и так мало бываем вместе».
— Я скучаю без тебя.
— А я? Все время думаю, думаю о тебе как одержимый. Это уже превращается в болезнь.
— Что ты имеешь в виду?
— Сам не знаю. Сегодня утром то ли солнце играло со мной, то ли еще что, но мне показалось, что ты идешь ко мне через лужайку в трепещущем таком, воздушном платье с голыми плечами, волосы подобраны сзади и длинные локоны у лица. И шейка трогательная, нежная. Я даже сам себя ущипнул, а потом вгляделся — все нормально: ты, да еще с Пончиком.
— И шея толстая, грубая, — попыталась пошутить Маша, но вышло это у нее до того пронзительно печально, что Вадим приподнял ее голову за подбородок и тревожно взглянул в глаза.
— А ты знаешь, с чего все для меня началось? С того самого вечера, когда ты сидела напротив меня с разбитой коленкой и мы говорили о дневнике Маши Апрелевой. Я тогда коснулся твоей руки, и у меня словно раскрылись глаза. Я влюбился сразу, в одно мгновение. Нет, неверно! Я понял, что любил тебя всегда, может быть, даже до моего рождения, что мы уже сидели когда-то так, друг против друга, в приглушенном свете ламп, свечей, не важно, и вполголоса говорили о чем-то важном, понятном только нам двоим.
— Ты никогда не говорил мне об этом, — шепнула Маша.
— Нет. Я ведь сугубо рациональный человек и, когда возникает нечто, что я не могу осознать умом и пощупать руками, теряюсь и отступаю.
— Отступаешь? Ты?
— Да, я. Ведь чего проще: встречаешь прелестную девушку, она нравится тебе, ты — ей, вы оба свободны. Беспроигрышная ситуация. Как сказал бы Холмс: элементарно, Ватсон. Так ведь нет. У нас все было иначе. И этот дневник… Я ведь спрашивал тебя о нем, но ты не захотела ответить.
— Мне было страшно. Все так необъяснимо совпадало. У того Вадима был друг по имени Арсений.
— Не может быть!
— Правда, правда. Я очень долго не могла заставить себя дочитать до конца все эти письма.
— Но ты все же прочла их?
— Да, уже после нашей свадьбы. У них все кончилось так ужасно. Я читала их и плакала, пряталась от тебя и плакала.
— Я помню, — глухо сказал Вадим. — Ничего тогда понять не мог.
— Она как бы вошла в меня, стала моим вторым «я». Я видела сны, где она была я, а он — ты, страшные, реальные до дрожи. Я все переживала заново вместе с ней. После той жуткой ночи в саду ее в горячке увезли в Москву. Когда она пришла в себя, мать сказала ей, что Вадим погиб. А на самом деле он был жив, понимаешь, жив! Этого удара она не перенесла, угасла в несколько дней. Лампада потухла. Так пишет ее мать в письме к отцу в Апрелево. В нем столько боли, столько муки! Дочь умирает у нее на руках, а она не находит в себе сил нарушить семейный запрет.
— Чудовищно! Несчастные, слепые люди. Бедная, бедная девочка! А что Вадим? Тебе известно, что случилось с ним?
— Подожди, я сейчас. — Маша проворно спрыгнула с его колен и скрылась за дверью.
Вскоре она вернулась с письмом в руке.
— Вот послушай. Это письмо Арсения отцу Маши. Датировано ноябрем 1860 года. — Она вздохнула, как всхлипнула, и дрожащим голосом начала читать: — «Милостивый государь, не могу выразить, как потрясло меня ваше письмо. Вы просите забрать кольцо Вадима Петровича, „залог нечестивой любви“, как вы изволили выразиться, и вернуть ему. При всем моем презрении к вам я за счастье почел бы выполнить вашу просьбу, но, увы, это невозможно. Месяц назад я получил письмо с Кавказа от полковника Благоволина. Он сообщает, что поручик Вадим Петрович Серебряков погиб в перестрелке. Подробности позволю себе опустить. Что ж, ликуйте. Вашими стараниями „нечестивая любовь“ унесла уже две жизни. Искренне надеюсь, что никогда больше не увижу вас, ибо при встрече не подам вам руки. Арсений Хомяков. Дубравы».