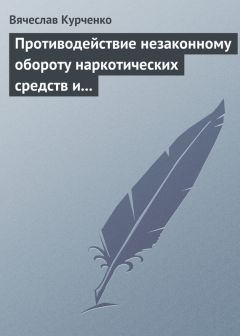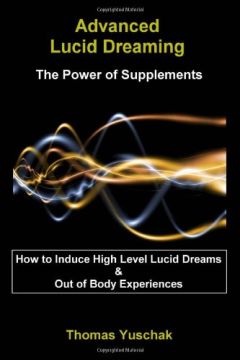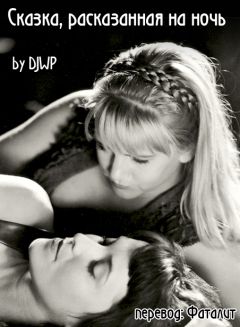Музыка войны - Лазарева Ирина Александровна
– Ты спрашиваешь меня так, как будто я знаю ответы на все вопросы, – засмеялась Катя. – Но что я могу сказать? Временами мне кажется, что я сама еще ничего толком не знаю. Я только чувствую, понимаю, что равноправие не должно втискиваться в область ухаживаний и нежностей и приказывать, кто кого сколько раз должен целовать, кто должен нести чемодан и подавать руку, и должен ли вообще. Не думаю, что это… больной вопрос, животрепещущий вопрос… словом, такой вопрос, который требовал какого-либо вмешательства представителей новых течений, такой вопрос, в котором мы не могли бы разобраться сами. Ведь рождались миллиарды людей до феминизма, стало быть, и любить, и ухаживать умели.
– Но вот я же не могу разобраться! – Воскликнула Лена в отчаянии. Вдруг Катя подумала, что, быть может, Артур ни с кем не уживался не из-за собственной ветрености, а потому что девушки бросали его из-за его странных требований. Она внезапно ощутила, что и Лена уже на грани, и никакая поездка не спасет их отношения. «Странная у меня душа, – подумала она, – как это я так чувствую другого человека, почти как себя, да и почти незнакомого мне человека. Зачем мне только это?» Но Лена по-прежнему глядела на Катю в ожидании какого-то ответа, ответа, который та не была способна ей дать. Наконец Катя вздохнула.
– Мне кажется, ты уже во всем разобралась сама. Просто не хочешь в этом себе признаться. Ждешь, что я подскажу, подтолкну тебя, но я на это не имею права. Тебе придется самой принять решение.
Всякий раз, как я пытался приблизиться к ним, Лена уводила Катю вперед, не позволяя ей застыть перед картиной и вдоволь налюбоваться ею. Сердясь на них, я нарочно читал подробные тексты на табличках под картинами, которые мне нравились, чтобы, в отличие от девушек, уйти из музея, обогатив свои знания в области искусства.
Но вот наконец Катя встала как вкопанная перед полотном Делакруа «Свобода ведущая народ» и на несколько минут перестала слушать Лену. Картина была усеяна телами погибших революционеров, а поверх них взбирались новые борцы за свободу, они поднимали высоко сабли, пистолеты, ружья, а всех их вела за собой прекрасная Марианна – символ Свободы. Она была зачем-то оголена и неправдоподобно ярко залита светом, когда другие части картины были погружены во мрак. Подобный прием не оставлял зрителю выбора: идти или не идти за Марианной, требовать или не требовать свободы, ведь вся она была словно соткана из света. Я встал рядом с Катей и, увидев ее лицо, не смог удержаться от улыбки: по нему ходили волны тени и света, Катя то удивлялась, то сердилась, хмурилась, то усмехалась. Никогда бы не догадался, что за чувства обуревали ее в то мгновение, и почему именно при взгляде на это эпическое полотно!
Вдруг я заметил высокого худого старика с красивым строгим лицом, с любопытством разглядывавшего Катю. Я давно обратил внимание, что открытый взгляд умных глаз ее никого не оставлял равнодушным – особенно здесь, среди европейцев, где такой взгляд, как это ни странно, был редкостью. Рядом с пожилым мужчиной стояла женщина лет пятидесяти, такая же стройная, но с совершенно блеклым лицом, будто выгоревшем на солнце, как холст – вероятно, это была его дочь.
– Вам не нравится эта картина? – спросил старик с сильным акцентом на английском, когда Катя поймала его взгляд.
– Что вы! Напротив!
– Мне показалось, вы смотрите на нее с отвращением.
Катя смутилась.
– Мне просто в голову пришли такие странные мысли. – Призналась она. – Когда я рассматривала ее.
– В самом деле?
В эту минуту я подошел поближе, а дочь пожилого посетителя обернулась к нам и поздоровалась. Как же все-таки просто все обходились в Европе: никакого стеснения, все общались так, будто заведомо не могли иметь дурных намерений по отношению друг к другу. Во взглядах, словах, движении улыбок людей не сквозило ни намека на недоверие.
– Я думала о родной стране.
– А откуда вы родом?
– Мы из России. – Ответил я немного с вызовом, посчитав, что сейчас Кате могут сказать что-то нелестное в адрес нашей страны, поэтому даже немного выдвинулся вперед, наполовину загораживая ее. Грузия, Крым, Донбасс – нас за столь многое должны были упрекать!
Но старика, напротив, отчего-то объяла столь большая, даже преувеличенная радость, что лицо его засияло.
– Ах, из России! Слышишь, Лиза? Они из России.
– Как здорово! Да ведь мы тоже… мы из Германии, представляете? – воскликнула женщина с таким же восторгом, как и ее отец, а мы с Катей, изумленные, смотрели на них и не могли понять, почему они были так счастливы встрече с нами. В четырнадцатом году, кажется, весь западный мир нас возненавидел, так я полагал. Более того, немцы были для русских полной противоположностью – этому меня учили с детства родители, рассказывавшие про чистоплотных немцев.
– Да мы ведь из ГДР – особенно четко выговорил каждое слово пожилой немец и кивнул нам так, словно мы должны были понять все по одному этому признанию. – Из Восточной Германии. Вы не представляете, как это здорово: приехать в отпуск в чужую страну и встретить здесь своих… – Он подбирал слово на английском, но не нашел, и тогда сказал по-немецки. – Landsmänner!
– Соо… течественников! – Выдохнула Катя, переведя последнее слово.
Оба мы были не в силах вымолвить ни слова, но при том прекрасно поняли мысль немца, и она ошарашила нас обоих. Он, разумеется, имел в виду, что и они, и мы – родом из стран бывшего социалистического лагеря, но… неужели он и его дочь не ненавидели нас за то, что наши правители когда-то навязали им коммунизм и разделение Германии на две обособленных части? Вместо этого они с дочерью уже записывали в блокнот свой адрес и вручали его Кате, умоляя нас приехать в Германию в следующий отпуск и остановиться у них в доме.
– Опять… коммунисты. – Пробормотал я, когда они ушли.
– Да… И для них слова «ГДР» и «СССР» значат намного больше, чем для нас с тобой. Потому что мы слишком молоды и почти не застали советские времена.
– И все-таки я не понимаю: сейчас Германия процветает – так почему они не проклинают те времена застоя?
– Н-да… – протяжно сказала Катя самой себе. – Не хлебом, стало быть, единым.
– Что? – не понял я.
Встрепенувшись, Катя посмотрела на меня и покачала головой:
– Я не знаю, не понимаю! Но очень хотела бы понять. Мне даже стыдно немного, что для них встреча с нами значила намного больше, чем для нас. Как-то так неуютно на душе от этого.
Я засмеялся.
– Да перестань, Кать! – Я обнял ее. – Пойдем, а то мы так до ночи ничего не посмотрим здесь. Гляди: даже Лена уже ушла далеко вперед.
Вечером, когда мы ужинали уже в другом ресторане, словно сговорившись, Артур помирился со своей девушкой, а вот Валя и Леша были немногословны, не обращались друг к другу и нарочно избегали скрещения взглядов, будто один вид каждого мог обжечь глаза. Кажется, на удивление всем – мы одни были счастливы и не ссорились с Катей, и даже наши споры не вбивали клинья между нами. Она, беспечная, окрыленная, призналась мне поздно вечером, когда мы прогуливались по ночному Парижу:
– Знаешь, я ведь приказала себе не сердиться ни на кого из-за разницы во взглядах, а особенно на тебя. Взгляды меняются, сегодня мы думаем одно, завтра другое, а вот отношения должны быть незыблемыми, как… как эти безмолвные звезды на бездонном черном небе. Кажется, у меня получается.
Стоит ли говорить, что я тем более не злился на нее из-за ее непробиваемости и упрямства! Я готов был простить ей все, лишь бы она была со мной, более того, приступы ненависти к своей стране и власти, восседающей над ней, то уходили, то приходили, и сейчас они на время спрятались, я не читал новостей, форумов, чатов общественников, не слушал радио, не интересовался дальнейшей судьбой Оскального… Я просто жил. Жил и занимался собственными делами. Как, оказалось, улучшается настроение, когда забываешь про каналы и чаты!
Но именно в то мгновение, когда счастье наше было неизмеримо, а будущее представлялось самым теплым, нежным, и только совместным, случилось то, что столкнуло наши отношения с верного пути. Или, быть может, это я так думаю теперь, спустя годы, приписывая значение событиям мелким и пустым, предотвращение которых никак не повлияло бы на нашу дальнейшую вероломную судьбу? Как бы то ни было, я задал Кате тогда неумолимый вопрос, вопрос, которому суждено будет родиться вновь на самом небосклоне наших отношений: