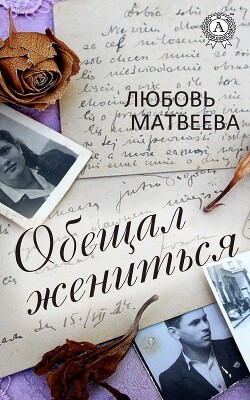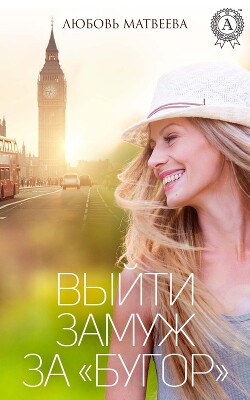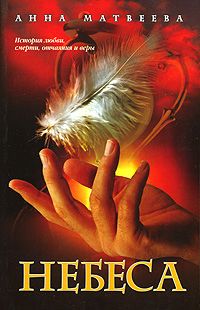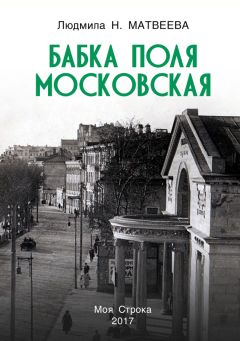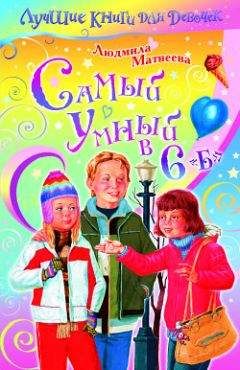Игры судьбы - Матвеева Любовь
Вот один из эпизодов моей фронтовой жизни. Днём 4 февраля 1944 года при смене огневой позиции мой расчёт станкового пулемёта был накрыт снарядом. Последнее, что осталось в моей памяти, это то, что кто-то грубо толкнул меня в спину. Огненная гудящая труба подхватила меня, и я потерял сознание… Между тем закончился бой, стемнело, я оказался раненым, оставшимся на нейтральной полосе. Немного пришёл в себя, но двигаться без посторонней помощи не мог. Надежды, что мне помогут, оставалось всё меньше. Настанет утро, и меня обнаружат враги, я даже слышал их
Голоса – их позиции были недалеко…
Вдруг в темноте показалась группа людей. Я испугался – это могли быть немцы. Но нет, оказалось – наши санитары, у них было задание найти убитого ещё в прошлом наступлении героя Днепра, старшего лейтенанта. Они бы и ушли, но я застонал. Бывшая с ними девушка-санинструктор тихо приказала:
– Величко, возьмите за ремень сержанта! Вы сможете идти? – обратилась она уже ко мне.
– Постараюсь! – ответил я. Привели меня в санроту, раздели, сделали противостолбнячный укол, стали заполнять медкарту.
– Юля, ты опять привела чужого? – обратилась недовольная медсестра к санинструктору.
– Ну какой же он чужой? Это Коля из Мценска, – устало пошутила Юля. Я наконец её разглядел – обыкновенная девушка в мужском ватнике, толстых штанах, сапогах-кирзухах и шапке-ушанке, завязанной по-девичьи.
Я тоже громко возмутился – почему это я – чужой? Врач-женщина, присутствующая при нашем разговоре, пояснила:
– Не обижайся, сержант, вы – 307-й дивизии, а мы 48-й Киевской, – и, вздохнув, добавила: – Что же я с вами утром буду делать – ни дорог нет, ни машин?
Мне сделали перевязку, дали стакан горячего чаю, я осмотрелся. В сарае-овине на плащ-палатках лежало более полусотни побитого воинства. Стали засыпать – ведь была уже глубокая ночь. Вдруг вошёл солдат, ординарец разыскиваемого на нейтральной полосе погибшего офицера, и, обращаясь к Юле, сказал:
– Санинструктор Друнина, к комбату! – девушка ушла. Ранение у меня было серьёзное, но только через неделю я был доставлен в настоящий госпиталь ЭГ-1232, в город Ковров. Здесь мне сделали три сложные операции. Более полугода провёл я там, после чего был признан годным
к строевой службе. Потом был снова ранен и снова спасён, в первую очередь благодаря девушкам-санинструкторам Асе Агеевой и Клавдии Чуваевой. Разве можно такое забыть?
А Юлию Друнину я ещё раз встретил, будучи в запасном полку в районе города Пыталова, на старой латвийской границе. Юля тоже была ранена, вылечена и возвращалась на фронт из московского госпиталя. На этот раз выглядела она щеголевато – в диагоналевой юбочке, сшитых на заказ хромовых сапожках, на новенькой гимнастёрке – нашивка за ранение и медаль «За отвагу». Я её остановил и напомнил об обстоятельствах нашего знакомства, поблагодарил. Поскольку я тоже был при полном параде, она с трудом узнала во мне того грязного, измазанного кровью, полуживого, нескладного юношу-сержанта, которого подняли они год назад на торфяном
лугу в Полесье.
В тот же день мы простились. Юля получила назначение в полк самоходных установок, а я, днём позже, попал в Третий Гвардейский Сталинградский механизированный корпус, в составе которого и закончил войну. Через много лет Юлия Друнина станет известной поэтессой. Читал её стихи, посвящённые Великой Отечественной войне. Они были созвучны с моими впечатлениями, полученными на полях сражений. Да и как иначе, ведь мы были почти ровесниками! Из Юлиных стихов видно, какой из неё сформировался красивый и мужественный человек, личность:
– так написала она однажды, так и поступила – ушла, добровольно ушла из жизни в 1993 году. События нынешнего времени разрушили идеалы её юности, а распутывать узлы она не любила…
А в моей семье тоже появилась Юля, жена. С ней мы и прожили больше пятидесяти лет, справив золотой юбилей нашей свадьбы.
Моя Юля, всю жизнь проработавшая медсестрой…
ПОДДАЙ ПАРУ, ЯНУС!
«Баня здоровит, разговор веселит» (укр. пог.)

Известно, что русский солдат шилом бреется, дымом греется, а второй враг его после неприятеля – окопная вошь. Поэтому когда наш старшина – санинструктор Михалыч, бывший фельдшер с Ленских приисков и светлая голова, организовал нас, легкораненых, на постройку баньки, за
дело принялись с большим энтузиазмом! Шуточное ли дело – несколько месяцев наша Седьмая Гвардейская механизированная бригада моталась по латвийскому берегу Балтики! Осень 1944 года выдалась дождливая, земля
промокла насквозь, и каждый километр её брали с большими потерями.
Теперь 3-й Прибалтийский фронт ушёл на запад, а наш, 2-й Прибалтийский, под руководством И. Х. Баграмяна, повернули назад, на так называемую «Курляндскую группировку фашистов», блокируемую нами с суши от Рижского залива до границы с Литвой.
В течение зимы нами предпринимались серьёзные попытки расчленить эту группировку, но, прижатая к морю стотысячная армия немцев и латышей из 46-й СС дивизии, стояла насмерть. Вот здесь-то, в конце февраля 1945 года, я и был ранен у станции Скрунда. На лечение был определён в свой медсанбат. Поскольку раненых было немного, нас не спешили выписывать, тем более, что на фронте дела шли хорошо. А тут как-то внезапно наступила весна. В два дня тёплые ветры Атлантики растопили рыхлый снег, и всё, что было скрыто, обнажилось неприглядным лицом войны.
Убитые уже были похоронены, но разрушающиеся окопы и блиндажи, искалеченные танки, брошенное военное снаряжение и горы обезвреженных противотанковых мин говорили сами за себя – бои здесь проходили нешуточные! Наш, 554-й отдельный медсанбат, приданный 7-й Гвардейской дивизии, разместился в лесу, рядом с мызой старого Януса и его жены Марты. Жили они здесь одни и нам даже обрадовались. Янус был наш знакомый – месяца четыре назад мы уже проходили через эти места, и он нам оказал большую услугу: провёл нашу разведку в тыл немцам. Они укрепились в старом полуразрушенном замке, который нам никак не удавалось взять, потому что в обороне у фашистов стоял танк «королевский тигр». Этот участок тогда и сдерживал наступление всего нашего корпуса.
А вслед за разведчиками ночью прошли сапёры, за ними – две самоходные установки СУ-152 из 62-й армии по прозвищу «зверобои». Утром они прямой наводкой проломили бортовую броню «тигра» – и сопротивление врагов было сломлено. Настроения нашему хозяину Янусу добавляло обещание Михалыча напомнить в штабе бригады об этой его услуге, так ка
он беспокоился, чтобы новые власти не отняли у него последнее, что осталось от большого хозяйства – маленькую мельницу. О пяти коровах, двух лошадях и множестве свиней напоминал только пустой скотный двор. Каменный амбар тоже стоял без дела. Вот в нём-то и было решено построить баньку!
Место для бани было прекрасное – рядом протекала полноводная река Вента. Хозяин не только не возражал, но и сам оказался хорошим помощником. Нашлись у него и необходимые материалы – бочки, краны, змеевик, и работа закипела! Когда садились отдохнуть, мы, молодёжь, охотно слушали рассказы старика Януса. Когда-то он, унтер- офицер полка латышских стрелков, помогал устанавливать Советскую власть в России, а именно – в Москве, в Ярославле. Осенью 1919 года, когда армия Деникина пошла с юга на столицу, навстречу им были высланы латышские стрелки. Решительный бой состоялся на станции Оптуха, на Орловщине, моей родине.