Отдаляющийся берег. Роман-реквием - Адян Левон
— Именно так, поскольку я человек честный, — сказал он недрогнувшим голосом. — Поскольку таким, как мы, всегда приходится нелегко в окружении бесчестной публики.
— Таким, как мы… Кого ты имеешь в виду — себя да Роберта Аракелова?
— Хотя б и его. Завотделом в научно-исследовательском институте, кандидат наук, автор прекрасных стихов, написал докторскую диссертацию для директора института. Вам этого мало? Что до меня, то да, я человек в высшей степени честный.
— Эта высшей степени честность и заставила тебя подсунуть жену Тельмана Чахальяна под Сафара Алиева? — выходя из себя, спросил главный.
Чем больше нервничал главный, тем спокойней и наглей становился Геворг Атаджанян.
— Это моё личное дело — знакомить знакомых женщин со знакомыми мужчинами, и это никого не касается. — На его лице расплылась похотливая ухмылка. — Один лакомится, у другого слюнки текут, а? Кто такой Тельман Чахальян, чтобы наслаждаться такой женщиной? Да, это я их свёл и хорошо сделал. А ты что, наденешь на неё пояс верности или, как средневековый рыцарь, навесишь замок? Товар её, кому хочет, тому и даёт, ты кто такой?
Главный не обратил внимания на этот цинизм.
— Всю жизнь, — сказал он с отвращением, — ты, будто шут, кривляешься перед судьями, прокурорами, милиционерами и продаёшь людей.
— А тебе кто мешает?
— Я к этому не приучен, это твоё ремесло. Твоё и твоего дружка-пропойцы Роберта Аракелова. Я с его отцом, Каро Аракеловым, в редакции газеты «Коммунист» работал. Тоже был гнусная тварь. Я смотрю, по части армяноненавистничества сынок многое унаследовал у отца. Да и дружок у него — ты, рыбак рыбака видит издалека, — заключил главный. — За что тебе Гурген Габриэлян отвесил прилюдную пощёчину?
— Не твоё дело.
— За то, что здесь, в Баку, ты бесстыже волочился за его замужней племянницей. Ты дружил с корреспондентом «Азеринформа» Радиком Григоряном, а его сестра написала на тебя жалобу руководству комитета.
— Верный, как собака, да презренный, однако, — прошипел Атаджанян.
— С Жорой, братом Гранта Бабаяна, редактора газеты «Коммунист», ты вроде бы водил дружбу, а про Гранта между тем распускаешь грязные слухи, сочиняешь на него анонимки. Что ты за существо!
— Был бы Грант Бабаян приличным человеком, — сказал Атаджанян, и в его глазах мелькнул зловещий жёлтый блеск, — принял бы меня на работу, назначил бы завотделом, и мне бы не пришлось обивать пороги.
— Бабаян, как видно, знал тебя лучше, чем мы, потому и не принял.
— Не беда, не принял он, примет Эмиль Григорян, новый редактор.
— Верно, — усмехнулся главный, — человек он новый, тебя не знает, может, и примет. Но только корректором или посыльным. Хотя, сказать по правде, ты не заслуживаешь и этого.
— Но ведь я армянский поэт… Боже мой, боже, — по-актёрски воскликнул Атаджанян и простёр кверху руки. — Все кому не лень без конца сплетничают, злословят, ставят подножки, завидуют, ревнуют. Что вам от меня нужно, жалкие вы мои злопыхатели? Чтобы я сложил крылья, загасил двигатели моей реактивной ракеты и наподобие вас тащился по старым дорогам на телеге? С ума сойти, честное слово! Вы этого хотите, убогие вы мои? Не дождётесь! Я армянский поэт, и очень хороший.
Главный посмотрел ему в глаза и с горечью бросил:
— Да какой ты поэт, вдобавок очень хороший, если в твоём-то возрасте не напечатал в Армении ни единой своей строки.
— Тебе подобные ставили палки в колёса.
— Послушал бы, что рассказывал о тебе Гурунц.
— Гурунц? — Атаджанян аж подскочил. — Знаю, знаю, наслышан, о чём он тут наболтал. Ничего, скоро… гы-гы-гы. — Звуки, которые он издал, смахивали на конское ржание. — Скоро и Гурунц получит по заслугам, — ехидно и злорадно заявил он. — Гурунц понятия не имеет, что я въедливый клещ, если вцепился — не отстану, пока всю кровь не высосу. Тельман Карабахлы тоже не знал, а теперь знает, — сказал он, этаким вальяжным сценическим шагом подошёл к дверям и, не оглядываясь, удалился.
— Ничтожество ты, а не армянский поэт, — всё-таки бросил ему вслед главный. — Тоже мне краснобай — «армянский поэт, и очень хороший». Не то худо, что он дурак, а то, что выставляет это напоказ.
Случилась ещё одна неприятность, на этот раз связанная с Ариной. Последние два дня она всё время была сама не своя; прежнюю Арину — смешливую, жизнерадостную — словно подменили.
— Что с ней? — спросил я Лоранну.
— Сама виновата, вот и мается, — таков был ответ, ничего ровным счётом, однако, не прояснивший. На следующий день Арина принесла на подпись одну передачу, снова хмурая, задумчивая, вся в себе, глаза тоскливые.
— Ты чего нос повесила? Смех с улыбкой тебе идут больше, — сказал я. Арина улыбнулась сквозь слёзы:
— Вечно я тебя огорчаю, — сказала она, пряча глаза. — Не знаю, что делать. Я не хочу, само так выходит.
— Что именно?
— А то, что поневоле подложила тебе свинью, — вполголоса сказала Арина. — Прости меня, пожалуйста.
— За что? Ничего не понимаю.
— Сильва сказала мужу, что из-за меня её не взяли на работу.
— Но ты же сказала, что муж у неё против. Я так и передал Саиде.
— Сказать-то я сказала… — Арина залилась краской и сконфуженно посмотрела на меня. — А она сказала мужу, будто я… связана с тобой… а тот пошёл и моему мужу доложил.
В эту минуту дверь отворилась и в кабинет вошёл парень лет двадцати пяти — двадцати шести, белокожий и вдобавок с бледным от волненья лицом, и, не глядя в мою сторону, с бешенством обратился к Арине:
— Ты чего здесь делаешь?
Перед этим Арина стояла напротив меня. Лицо её побелело как полотно, и она не то что села, но рухнула на стул.
Я, разумеется, понял, что это Аринин муж, и грубо сказал:
— Слушай-ка, тебя как зовут?
Он обернулся и с яростью процедил сквозь зубы:
— Карен.
— Так вот, Карен. У себя дома можешь командовать, а это редакция, и будь любезен вести себя, как подобает.
Арина приоткрыла в испуге рот и, не сводя глаз с мужа, не смела слова сказать.
— Что она здесь делает? — обращаясь теперь уже ко мне и тяжело дыша, спросил Карен.
— Принесла на подпись передачу, — сказал я сухо и жёстко. — И если тебе это не нравится, мы можем сегодня же уволить её. Ты доволен?
— Нет, — сказал Карен. — Я сейчас отведу её к Сильве, вы её знаете, и если Сильва в её присутствии подтвердит, что она той сказала, тогда приговор ясен. — Неуловимым движением парень извлёк из кармана складной нож, нажал на кнопку, и выскочило лезвие.
— Тогда приговор ясен, — повторил он, и ноздри у него раздулись. — Этим вот ножом я убью и её, и вас, и себя.
— Вот что, — сильно разозлился я. — Лучше бы ты начал с себя. Вон отсюда.
Арина невольно вскочила и, понурив голову, выбежала из кабинета.
Карен холодно смерил меня взглядом и, не говоря ни слова, медленно сложил нож, убрал его в карман, оглянулся в дверях и вышел.
Что да, то да, новый год и впрямь начался неблагополучно. Ну а поздно вечером двадцать первого февраля совершенно неожиданно позвонил завотделом культуры ЦК компартии Азербайджана Азер Мустафазаде. Прежде Азер работал у нас, в русской редакции комитета по радио и телевидению. Потом недолго побыл представителем Союза писателей в Москве и столь же недолго — заместителем республиканского комитета по печати. В былое время мы с ним, Сиявушем и писателем Сейраном Сахаватом не раз сиживали в ресторанах, однажды встретились в Москве — в ресторане ЦДЛ, словом, были довольно близки.
— Лео, — сказал Азер, — завтра ты должен быть в Степанакерте. Там Рамиз Мехтиев. Зайдёшь к нему в обком, он скажет, что делать.
Рамиз Мехтиев был одним из секретарей ЦК. Прежде мне случалось иметь дело с высоким начальством, раза два бывал в районах с самим Гейдаром Алиевым — в Казахе, Исмаиллы, Агдаме и Мартуни, так что я не увидел в этом ничего странного.
— Ладно, — сказал я. — Сейчас уже поздно, поеду завтра.
Однако последняя его фраза, произнесённая вскользь: «Там взбунтовалось несколько стариков, надо б уговорить их покончить с их старческими бреднями», — последняя фраза меня насторожила. Он так и сказал: старческие бредни.
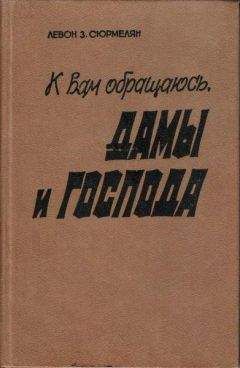
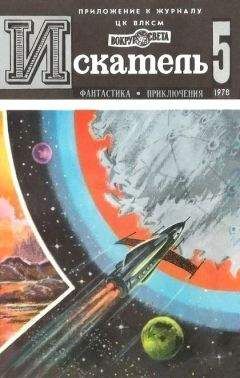


![Кейт Лаумер - Берег динозавров [Империум. Берег динозавров. Всемирный пройдоха]](/uploads/posts/books/69562/69562.jpg)