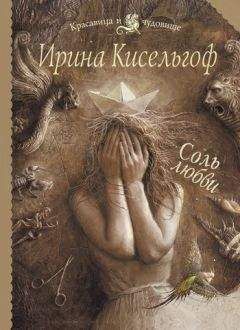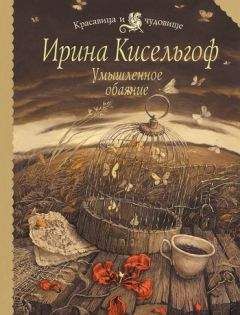Ирина Кисельгоф - Холодные и теплые предметы
Другими словами, я только сняла одежду и взяла в руки свой накрахмаленный халат, как дверь моего кабинета открылась без стука и в кабинет ввалился карьерист.
– Что это…
Я приняла позу фотомодели. Нарочно. Пусть не лезет без стука в девичью светелку! Хам!
Карьерист сначала застыл, потом побагровел, затем вспотел, и его вопрос вместо приветствия остался без продолжения. Он вел себя как девственник. Оказался бы на его месте хирург, даже интерн, была бы совсем другая мизансцена. Я вас уверяю.
– Что вам угодно? – вежливо спросила я, перекинув через руку накрахмаленный халат, как палантин.
Чуть не сказала: «Присаживайтесь. Вот вам зрелища, если вы голодны».
Он развернулся и вышел, плотно и аккуратно закрыв дверь моего кабинета.
Получил урок? Лузер!
Самое смешное, история имела продолжение, но не то, что вы думаете. В больнице вышел внутренний циркуляр носить под халатом одежду. Более того, одежду повелели выдать из числа ветхих хирургических костюмов. Циркуляр был подписан карьеристом по фамилии Решетов. Умора! Паноптикум, а не больница! Честное слово! Я не вру!
Отдел кадров катался от смеха, печатая циркуляр. Смех смехом, а дело делом. Начались народные волнения, камнями было решено побивать меня.
Кому хочется камней? Потому я советую: умейте управлять толпой и направьте ее энергию по адресу.
– Я хочу не только слышать, а видеть эту бумажку. Дай мне ее, – потребовала я у уролога Седых, чья жена работает в отделе кадров.
– Она у меня под стеклом в ординаторской. Мы решили повесить ее на стену. В рамочке, – заржал он. – Разгуливаешь по отделению голой?
Батюшки! Вся больница в курсе.
– Ага.
– Зачем добивать иеромонаха? Он и так не в себе. Его крыша давно в подвале.
– Дай мне его писульку, и я верну крышу на место. А Седельцов в курсе?
– Он на тебя стрелки и перевел. Добрый, позабытый тобой мужичок.
Батюшки! Это не больница, а поместье сурикатов. Ну ладно. Вы еще попляшете, грызуны!
Я явилась в приемную главврача. Седельцов принял меня чуть ли не через час. Он был очень занят. Раньше, несмотря на толпу в приемной, он приглашал меня в кабинет без очереди. Вот так и проходит мирская слава. Мимо. Обожаю говорить штампами. Штампы – квинтэссенция человеческой мысли.
– Вы это видели, Роман Борисович? Над нами смеется весь город, – я сунула Седельцову писульку иеромонаха. – Хотите поставить себя в неловкое положение?
– Впервые вижу, – сообщил патологический лжец и сразу раскололся: – Зачем ты соблазняла этого дурака? Собираешь черепа в кучку, как Верещагин? Апофеоз войны по-зарубински?
Я расхохоталась. Не думайте, что врачи полные профаны, знакомые только с костями и мышцами. Врачи знают много гитик.
– Он вломился ко мне в кабинет без стука.
– Дверь закрывать надо. На ключ. Это больница, а не школьная раздевалка. М и Ж.
– Хорошее воспитание – это детская прививка. Или оно есть, или его нет. Даже главный врач приходит ко мне, постучавшись.
Седельцов зажмурился от удовольствия. Его похвалили. Все любят, когда их хвалят. Это отличный прием для получения желаемого.
– Аннулирую, – пообещал он. – И?
Когда Седельцов хочет харассмента, его рука спонтанно касается брючного ремня. У него это безусловный рефлекс.
«И» осталось на трубе», – подумала я и подняла брови.
– Так что, над нами будут смеяться?
– Иди, Зарубина, – разозлился Седельцов. – В декрет! Хоть девять месяцев от тебя отдохнем.
– Спасибо, Роман Борисович.
Седельцов циркуляр аннулировал и издал нерукотворный декрет о мире. Образно выражаясь, я все же ушла в декрет. Надеюсь, на девять месяцев, несмотря на то, что иеромонах живет в состоянии ненависти ко мне. Она протекает атипично, с обильным потоотделением и выраженной гиперемией кожных покровов. Дабы не было обострений, он не является ко мне в отделение и отводит глаза на больничных конференциях. Сам виноват! Как бы ни сложилась судьба циркуляра, он в любом случае стал бы посмешищем.
Знаете, когда я стала парией, у меня появилась неадекватная реакция на стресс. Вместо того чтобы плакать, я смеюсь. В институте моя группа сачковала с занятий. Я люблю порядок, потому не люблю пропуски, отработки и хвосты. Это напрягает. Но чтобы не выделяться и быть как все, я тоже сачковала. Это было веселее, чем лекции и практика, но неприятный осадок оставался. Нас песочил замдекана в деканате. У всех были угрюмые и проникновенные лица, кроме меня. Я хихикала как ненормальная и давила ногтем на кожу ладони. У меня еще долго был след, синюшно-багровое полулуние. Так я попала в черный список. Но это была ерунда. В школе я получила отличный иммунитет. А замдекана стал моим первым мужчиной. Моим первым мужчиной был толстый мужик с толстыми щеками и толстым пузом. Он ставил мне пары и заставлял ходить на отработки. Вечером, когда никого уже нет. Я отвечала, глядя на то, как он играет брелоком с ключами от автомобиля. На брелоке была голая женщина.
«Хрен тебе!» – думала я.
Потом меня не допускали к сдаче экзамена. Потом я провалила экзамен весной. Потом провалила пересдачу осенью. А потом получила оценку «хорошо» на заднем сиденье его машины. Не «отлично». Забавно, да? Хотя оценка «хорошо» неплоха за экспресс-экзамен в дискомфортных условиях. У меня не было пятна на платье, оно осталось на кожаном сиденье машины моего первого мужчины. Первого мужчины с запахом тухлых яиц изо рта.
Миф о первом мужчине и первой любви – чушь, глупее которой нет. Я ненавижу это вспоминать. Вот такая история.
Зачем я это вспомнила?
Теперь я не смеюсь открыто, я смеюсь про себя. Все люди смешные, я тоже.
* * *Настроение у меня меняется даже не день ото дня, а час от часу. Без всякой причины. То хорошее, то жаль себя до слез. Мое лучшее лекарство от жалости к себе – это работа. Если ты на работе, от жалости к себе отвлекают больные, коллеги, бесконечная круговерть больших и маленьких дел. Мою жалость к себе лечат перспективные линии чужой человеческой жизни. Это параллельные линии, они не пересекаются с моей, потому не мешают, а, напротив, вытаскивают меня из угла, в который я загоняю саму себя.
Я теперь каждый день с Димитрием, чтобы не помнить ни о чем. Самое трудное время между окончанием моего рабочего дня и его приходом домой. Чтобы занять себя, я хожу по улицам и смотрю на людей просто так. Оставляю машину на платной парковке и хожу без цели, без руля и ветрил, как говорит Димитрий. Самое странное, я почти не вижу счастливых людей. Может, они берегут свое счастье от чужих глаз?
Как-то раз я увидела старика, он играл на губной гармошке и гитаре. Своей единственной ногой он бил в барабан. Сидячий одноногий, никому не нужный оркестр. У его ног лежала шапка, в ней почти совсем не было денег. У старика был голодный и несчастный вид. Глядя на него, я вдруг подумала: