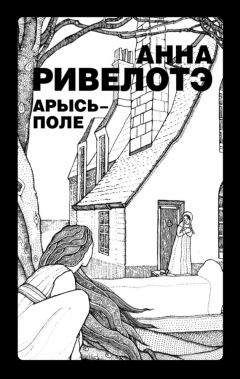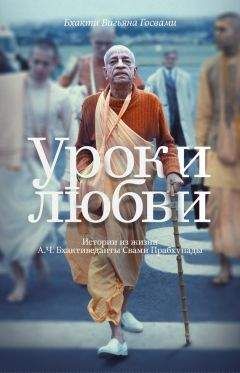Анна Ривелотэ - Книга Блаженств
18 марта 2000 года в городе Новосибирске в 19.34 но местному времени Идущая Вспять зашлась в недолгом и остром младенческом крике. Ее сморщенное личико побагровело, потом посинело; она затихла, и Альбина высвободила палец из ее крошечного холодеющего кулачка. Альбина с изумлением рассматривала то, что осталось от ее Лёки, от той, с кем она была неразлучна последние сорок лет своей жизни. Рассматривала то, что так умиляет всех молодых мамаш: пяточки, пальчики, складочки под коленями разведенных ножек, слипшиеся темные ресницы, мягчайший завиток на темени, мокрый и нежный изгиб верхней губы. Своих детей у Альбины никогда не было. Она взяла Лёку на руки, прижала к груди и больше часа простояла не шелохнувшись.
Salve, Albina, седые косы — твоя корона. Ave, Albina, радуйся, дева, славься, мадонна с мертвым младенцем под полотенцем, с плачущим сердцем. Огненный путь свой ты одолела, милю за милей, — белой свечою оледенела в ворохе лилий. Словно гвардеец, взявший оружие на караул. Может, младенец просто недужен, просто заснул?.. Осиротела ли, овдовела — нужного слова нет в языке. Все, что любила, все, что имела, — пеплом в руке вмиг обернулось, прахом в горсти. Полно баюкать мертвое тело, брось, отпусти! Но неподвижна, словно колонна, выпрямив спину, плачет старуха, плачет мадонна, плачет Альбина.
Это песня, которую я не спою Альбине. Она омыла Лёку и обрядила в длинную крестильную рубашку с кружевами, положила в полиэтиленовый пакет и засунула в морозильную камеру. Альбина хотела дождаться теплых дней, когда оттает земля, чтобы похоронить Лёку без посторонней помощи и лишних глаз.
В это время в Москве Матильда отмечала свой двадцать четвертый день рождения. В одиночестве она стояла на мосту и пила из горлышка коньяк «Черный аист» за упокой души своей подруги Лёки Михельсон, а бешеный мартовский ветер трепал ее волосы, окрашенные стойкой краской цвета «сияющий каштан». На съезде с моста в автомобиле сидел Юл. Он сидел там битый час и недоумевал, почему Мати выбрала такой странный способ праздновать двадцатичетырехлетие. Она могла бы устроить вечеринку или пойти в клуб, вместо того чтобы превращать некруглую, в общем, дату в личную трагедию. Юл побарабанил пальцами по приборной доске и пробормотал: «Причуды… За то и любим».
Настал май. Последние заморозки прошли, но Альбина не торопилась с похоронами. Она старалась как можно реже заглядывать в морозилку, и все же ей было спокойнее от мысли, что Лёка рядом. Соседкам по подъезду, интересовавшимся, куда пропала ее внучка, Альбина сказала, что Лёку забрали родители. После праздников, выбрав погожий денек, она оделась так, как обычно одеваются старушки, отправляясь на дачу. Никакой дачи под Новосибирском, понятно, у Альбины не было, но на случай, если кто-нибудь спросит, у нее имелась очередная легенда, в изобретении которых за сорок лет она изрядно поднаторела. Альбина прихватила с собой лопату в матерчатом чехле и сумку на колесах, где лежали тело Лёки, упакованное в большую обувную коробку, и бутыль с керосином — протравить могилу, чтобы не разорили животные. На вокзале она села в восточную электричку и доехала до платформы Барлак. Отойдя от станции на порядочное расстояние, она остановилась в давно присмотренном местечке недалеко от озера, в светлом березовом лесу. Она расчехлила лопату и, помолясь, взялась за работу.
Альбина копала с ожесточенным усердием; уже через полчаса ломота в пояснице заставила ее остановиться. Она была крепкой и статной женщиной, однако ей было шестьдесят восемь лет, и тяжелая сибирская почва поддавалась с трудом. Альбина воткнула лопату в землю и привалилась к березе, чтобы передохнуть. Она раскрыла сумку и достала бутылку с водой. Невдалеке послышался собачий лай: сквозь молодые папоротники к ней мчался большой охотничий пес. За псом, окликая его, шел бородатый мужчина в очках и спортивном костюме. Пес со всего маху прыгнул на сумку-тележку, отчего та повалилась набок, и мгновенно запустил в нее нос и обе передние лапы. Альбина похолодела, но виду не подала.
— Фу, Гизер, фу! — закричал бородач. Пес радостно высунулся из сумки и завилял хвостом.
— Бутербродики у вас там, наверное, с колбаской? — Хозяин собаки прищурился.
— Они, родимые, — закивала Альбина.
Бородач схватил пса за ошейник и потрепал его между ушами.
— Что это у нас тут? Тетя ямку роет?
— Ну, допустим, роет. — Эта пара начинала Альбину раздражать своим любопытством. — Это что, запрещено?
Бородач хмыкнул и направился к озеру. Гизер последовал за ним.
Альбина наспех закончила работу. Яма получилась не такой глубокой, как ей бы хотелось, но она опасалась возвращения собаковода и потому торопилась. Коробка с останками Лёки была перевязана бечевкой, чтобы не раскрылась в дороге; теперь Альбина сняла бечевку. Она сдвинула крышку и поцеловала Лёку в лоб. Тело успело оттаять, и картон начал размокать. Альбина опустила коробку в могилу и бросила первую горсть земли, когда громкий лай возвестил о приближении Гизера и его дотошного хозяина. Альбина схватилась за лопату. Бородач подошел почти вплотную.
— Тетя хоронит бутербродики с колбаской?
— Тетя кота хоронит. Иди своей дорогой, добрый человек.
Не обращая внимания на летящие комья земли, пес сиганул в могилу и яростно заработал лапами.
— Фу, Гизер, ко мне! Там кот, он дохлый, он нам не нужен!
И тут хладнокровие покинуло Альбину. Она прыгнула в яму вслед за Гизером и вцепилась в коробку.
— А ну, пошел вон!
Пес зарычал. Альбина зашлась в рыданиях.
— Оленька, Оленька моя, — шептала она, накрывая телом картонный гроб. Необъятное, невыразимое горе сомкнуло над ней свои темные воды, и там, под толщами этих вод, она не видела и не слышала ничего, что творилось вокруг. Необходимость сохранять тайну больше для нее не существовала. В глубине разверзшегося перед ней одиночества эту тайну не от кого было хранить. Она даже не заметила, как хозяин пса под мышки выволок ее, прижимающую к груди коробку, из могилы. Не заметила, как пополз раскисший картон, прогибаясь под невеликой тяжестью Лёкиного тела, как Гизер схватился зубами за кружевной край крестильной рубашки. И когда человек с бородой забрал с собой сумку с трупом младенца и ушел в поселок за подмогой, предварительно привязав Альбине бечевкой запястья к лодыжкам, она все еще повторяла: «Оленька, Оленька моя».
Тогда, в двухтысячном, Альбину Аникину признали невменяемой, и четыре месяца она провела на лечении у доктора Осецкой. То, что привело ее в клинику на сей раз, было куда как более прозаично: старческое слабоумие.