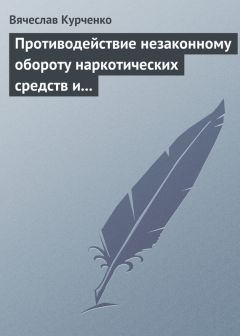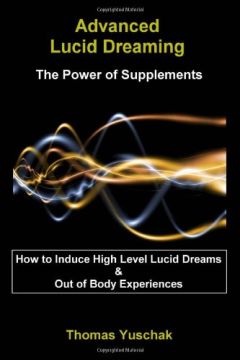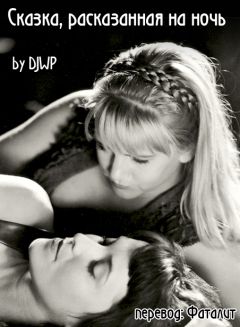Музыка войны - Лазарева Ирина Александровна
А затем позвонил Леша, сообщил, что скоро выйдет из метро, просил прийти к нему в кафе у станции, обсудить дальнейший план действий. Катя, удивительно быстро справившись со слезами (ведь она ненавидела минуты, когда распускалась и жалела себя!), покинула подъезд. Вновь заморосил мелкий противный дождь, и маленькие его холодные капли потекли по лицу и ее темным волосам. Если бы пошел настоящий ливень, не ведающий границ, он вымыл бы свинцовую тяжесть с бездонного неба, он открыл бы путь к лучезарному солнцу и все проникающим его переливам, но нет! Неизвестность опутывала ее своими сетями, будто говоря: рано рыдать, но и рано радоваться. Впереди были часы терзаний и полного неведения.
В вечер митинга я оказался в самой гуще драки, именно поэтому меня так долго держали у себя силовики; они пытались запугать меня и других ребят, очевидно, полагая, что подобными методами отобьют у задержанных всякое желание участвовать в будущих сходах. Несколько раз пересматривали видео драки, но зацепиться было не за что. В минуту, когда силовики стали скручивать руки мирным митингующим, я был на грани: и без того раздираемый яростью, казалось, я только того и ждал, чтобы сцепиться с кем-то, кулаки сами просились в драку. Но дальнейшее предопределило мою судьбу. Совершенно неожиданно для себя, когда кто-то из митингующих первым ударил омоновца, во мне будто сработала защелка, и я вдруг понял, что нельзя, ни в коем случае нельзя оказывать им сопротивление, пусть я в своих же глазах буду трусом, пусть не последую примеру самого отчаянного из нас, пусть буду слаб и ничтожен.
Так я оказался в автозаке, а затем и в отделении полиции, где во время допросов мне рассказывали, что можно со мной сделать на совершенно законных основаниях: уволить с работы, сделать так, чтобы другие работодатели не желали связываться со мной, сделать меня невыездным из страны и далее, далее по списку. И хотя в начале мне стало не по себе, я как будто сразу поверил их угрозам, но чуть позже, чем больше они пытались напугать меня, тем забавнее все это становилось: я разгадал их игру, я понял, что эти вояки были никем иными, как истинными добряками, которые ничего не собирались и не могли мне сделать, но для «галочки» они должны были хорошенько поработать со мной.
Я уже не хмурился, когда отвечал им, а едва сдерживал улыбку, старался быть немногословным, чтобы и они не угадали по моему виду и тону, что я все про них понял.
Однако ближе к вечеру тридцать первого я стал переживать, что меня не отпустят до ночи, и тогда, вероятно, я опоздаю на рейс в Париж, потому я стал просить их отпустить меня на праздник. То ли сжалившись надо мной, то ли решив, что уже и так хорошенько проучили меня, они отпустили меня и вернули личные вещи в восемь часов вечера.
Приехав домой и подключив телефон к зарядке, я увидел бессчетное число пропущенных звонков с разных номеров, но глаза различали звонки только от одного единственного человека, потому что та настойчивость, с которой она пыталась отыскать меня, могла означат лишь одно.
Через полчаса я стоял у окон ее дома. Лужи стягивались тонкой сверкающей кромкой льда, отчего они так приятно хрустели и лопались под сапогами. Противный моросящий дождь наконец прекратился, и на смену ему пришел тихий бесшумный снегопад; невесомые узорчатые хлопья кружили в воздухе, не спеша припасть к земле, они будто танцевали в преддверии то ли сказки, то праздника. Трава сквера и вокруг детских площадок, еще как будто живая и зеленая, теперь, казалось, поседела, а на темном небе, совсем недавно заполоненном непроглядными тучами, показались клочья звездного покрова, на котором убаюкивающе мерцала далекая крошка, почти что пыль. Пусть это была пыль, но такая пыль, которую ничто в мире, никакая сила не могла погасить. Странные ощущения, совсем как в детстве, промелькнули в уме, и я на мгновение забыл, что намеревался делать: только смотрел на колдовской снежный вальс.
Затем, вспомнив, зачем я здесь, я набрал ее номер и тут же почувствовал, как ком подскочил к горлу и перехватило дыхание.
– Катя? Катя, это я. Ты ведь дома?
Я и без того знал это, ведь видел свет в ее окне, лучащийся сквозь тонкие сиреневые шторы.
– Саша! – вскричала она. – Саша, ты где? Что с тобой? Где ты?
– Я здесь, у твоего окна.
– Тебя отпустили?
Не успел я обойти дом, чтобы зайти в подъезд, как Катя, едва одетая, в сапогах на голую ногу и в расстегнутой куртке, накинутой на домашнюю одежду, растрепанная, бледная, выскочила на улицу и бросилась мне на шею. Сколько было в дальнейшем в жизни пламенных мгновений, минут, когда казалось, что все вокруг: и дорогая обстановка, и жаркая солнечная погода, шум прибоя, любимый человек рядом – все благоволит твоему счастью, совершенному, картинному, но тем не менее каждое из таких мгновений меркло перед той минутой, когда я даже не целовал, а просто крепко сжимал Катю в объятиях, а она не чувствовала мороза, обдающего голые ноги колким жаром. Нам обоим только хотелось, чтобы этот миг длился и длился, и никогда не кончался.
Я был уверен, что Катя наконец на собственном опыте прочувствовала тот мрак, что сковал Россию, и уж теперь мы достигнем взаимопонимания.
– Полетишь завтра со мной, милая моя, единственная Катя?
– Полечу. – Без единой секунды промедления ответила она.
Да, было морозно, сумрачно, мы оба были уставшими и голодными, нас окружали многоэтажные неприглядные панельные дома посреди спальной Москвы, а все-таки это были самые романтичные минуты моей жизни, для которых в памяти отведено священное место, и никакие объятия на берегу лазурного моря впоследствии не могли сравниться с ними.
Глава восьмая
В первый день нас встретили хозяева дома, пожилая пара Симона и Бенуа Ласина. Симона Ласина была на редкость для своего возраста деятельной худощавой женщиной. Под широкими, наполовину седыми бровями ютились два едких глаза, от взгляда которых становилось сперва зябко и как-то неуютно: они как будто буровили тебя насквозь, считывая твои мысли, выраженные в уме и даже еще те, что только гнездились в нем в виде облаков-образов. Под таким взглядом слова застывали еще в горле, и требовалось время, чтобы привыкнуть к Симоне, понять, что она была совершенно безобидной и дружелюбной и, более того, даже не помышляла о том, чтобы использовать сказанное тобой против тебя. Веки в уголках ее глаз западали с рождения, скрывая ресницы, отчего глаза казались не подведенными, блеклыми, и, если бы не густые брови, даже в молодости она считалась бы дурнушкой, но широкие брови спасали положение, преображая лицо, а гармоничные черты скул, носа, лба довершали образ. Все это я понял, сравнивая мадам Симону со старыми черно-белыми фотографиями, расставленными в небольшой гостиной на небольших полочках за старинным письменным столом. Мне даже показалось, что выразительные брови спасали ее и теперь, благодаря ним лицо ее не казалось по-старчески блеклым.
Вместе с мужем они жили на третьем этаже своего большого дома, к которому они пристроили отдельный вход и лестницу, чтобы можно было сдавать первые два этажа как полноценный дом с небольшим садиком и жить на этот доход. Сперва мы побывали на их третьем этаже, где мадам Ласина сварила нам кофе и угостила печеньем, а затем только они провели нас на первый этаж в наши комнаты. Несколько месяцев назад мы вместе с Катей выбрали именно это жилище, заворожившее нас старинными интерьерами, лакированной мебелью из дерева, диванами и креслами цвета морской волны, тяжелыми шторами с золотой тесьмой, потрясающей лестницей. Казалось, ни мебель, ни полотна, ни ткани в этом доме не ведали износа и выцветания – настолько добротным все было, да и глаз, очарованный общим сочетанием застывшей старины, не замечал ни потертостей на мебели, ни на полу, ни на дверях.
Господин Бенуа Ласина был высоким стариком с легком косоглазием и лопоухостью, которая, должно быть, с возрастом стала еще больше бросаться в глаза, когда он похудел и потерял былую шевелюру волос. Сколько им было лет, я не знал, но при взгляде на господина Бенуа я почему-то подумал, что ему, быть может, уже есть восемьдесят, что удивило меня, должно быть, потому что я никогда не полагал, что в их годы можно быть столь предприимчивыми и состоятельными.