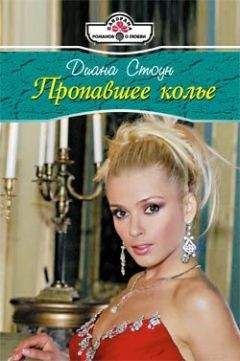Джоди Линн Пиколт - Уроки милосердия
— Ого, — наконец произношу я, поскольку в нашей группе правил мало, но те, что есть, незыблемы: быть благодарным слушателем, никого не судить, не ограничивать стремление другого быть несчастным. Мне ли не знать этих правил? В конце концов, я уже три года посещаю эти занятия.
— Что ты принесла? — спрашивает миссис Домбровская, и я понимаю, почему она держит урну с прахом своего усопшего мужа. На последнем занятии наш куратор, Мардж, предложила поделиться воспоминаниями о том, что мы потеряли. Я вижу, что Шайла так крепко вцепилась в пару вязаных розовых носочков, что костяшки пальцев побелели. Этель держит пульт от телевизора. Стюарт принес — в очередной раз! — бронзовую маску, сделанную со слепка лица его первой, умершей, жены. Маска уже несколько раз появлялась на наших занятиях, и до сего момента мне казалось, что это самая жуткая вещь, которую мне доводилось видеть, — пока миссис Домбровская не принесла с собой Херба.
Я не успеваю ничего пролепетать в ответ, потому что Мардж просит нас рассесться. Мы ставим складные стулья в круг, достаточно близко друг от друга, чтобы похлопать по плечу соседа или протянуть руку помощи. В центре стоит коробка с салфетками — Мардж приносит их каждый раз, так, на всякий случай.
Обычно Мардж начинает с глобального вопроса «Где ты был 11 сентября 2001 года?». Люди начинают говорить о всеобщей трагедии, иногда после этого им становится проще поделиться собственной бедой. Но, несмотря на это, есть те, которые молчат. Иногда проходит несколько месяцев, прежде чем я узнаю, как вообще звучит голос нового участника наших занятий.
Однако сегодня Мардж сразу спрашивает о вещах, которые мы принесли с собой. Руку поднимает Этель.
— Это пульт Бернарда, — говорит она, потирая большим пальцем пульт от телевизора. — Я хотела, чтобы он исчез, — одному Богу известно, сколько раз я пыталась его отобрать. У меня и телевизора-то больше нет, к которому подходил этот пульт. Но, похоже, я не могу его выбросить.
Муж Этель жив, но страдает болезнью Альцгеймера и понятия не имеет, кто она. Люди переживают разные утраты — от маленьких до больших. Можно потерять ключи, очки, девственность. Можно потерять голову, сердце, разум. Можно остаться без дома и переехать в дом престарелых, или ребенок может переехать за море, или у тебя на глазах вторая половинка может тонуть в бездне слабоумия. Утрата — нечто большее, чем просто смерть, а горе придает эмоциям сероватый оттенок.
— Мой муж не выпускает из рук пульт управления телевизором, — говорит Шайла. — Уверяет, что поступает так потому, что женщины уже прибрали к рукам все остальное.
— На самом деле это инстинкт, — возражает Стюарт. — Часть мозга, отвечающая за территориальное деление, у мужчин больше, чем у женщин. Я слышал это в передаче Джоша Теша.
— И поэтому это высказывание становится нерушимой аксиомой? — Джоселин закатывает глаза. Как и мне, ей нет и тридцати. Но в отличие от меня, ей не хватает терпения при общении с теми, кому за сорок.
— Спасибо, что поделилась своими воспоминаниями, — говорит Мардж, тут же вмешиваясь в спор. — Сейдж, а ты что сегодня принесла?
Я чувствую, как горит щека, когда взгляды присутствующих обращаются ко мне. Несмотря на то что я знаю всех в группе, несмотря на то что мы создали круг доверия, для меня все еще мучительно открываться под их испытующими взглядами. Кожа на моем шраме — морская звезда на левом веке и щеке — натягивается сильнее, чем обычно.
Я встряхиваю волосами, чтобы они упали налево, и достаю из-за пазухи цепочку, на которой висит мамино обручальное кольцо.
Конечно, я знаю почему — спустя три года после маминой смерти! — каждый раз, когда я вспоминаю ее, словно меч вонзается между ребер. Именно поэтому я единственная из первого состава группы продолжаю посещать сеансы терапии. Если большинство людей приходят за терапией, я пришла за наказанием.
Руку поднимает Джоселин.
— Это меня напрягает.
Я становлюсь пунцовой, думая, что это обо мне, но потом понимаю, что она не сводит глаз с урны на коленях миссис Домбровской.
— Это омерзительно! — восклицает Джоселин. — Предполагалось, что мы принесем с собой воспоминание, а не что-то мертвое.
— Он не что-то, а кто-то, — поправляет миссис Домбровская.
— Не хочу, чтобы меня кремировали, — задумчиво произносит Стюарт. — Меня мучают кошмары, как будто я погибаю в огне.
— Экстренное сообщение: ты уже будешь мертв, когда окажешься в огне, — говорит Джоселин, и миссис Домбровская тут же заливается слезами.
Я протягиваю руку к коробке с салфетками и даю их ей. Пока Мардж напоминает Джоселин о правилах группы, вежливо, но твердо, я направляюсь в расположенный дальше по коридору туалет.
Я выросла с мыслью о том, что в утратах есть свои положительные стороны. Мама, бывало, говорила, что именно поэтому она и встретила любовь всей своей жизни. Она забыла в ресторане сумочку, а помощник шеф-повара нашел ее и выяснил, кто хозяйка. Он позвонил ей, а мамы дома не было, и сообщение записала ее соседка по комнате. Когда мама перезвонила, трубку взяла женщина и позвала к телефону моего отца. Когда они встретились, чтобы он смог отдать маме сумочку, она поняла, что он — воплощение ее мечты… Но еще она по своему первому звонку знала, что он живет с женщиной.
Которая оказалась просто его сестрой.
Папа умер от сердечного приступа, когда мне исполнилось всего девятнадцать, и через три года, когда умерла мама, я не сошла с ума только потому, что убеждала себя: мои родители опять вместе.
В туалетной комнате я убираю с лица волосы.
Шрам сейчас серебристый, сморщенный, пересекающий мою бровь и щеку, как шнурок на шелковой сумочке. Если не считать того, что, когда веко опускается, кожа слишком сильно натягивается, с первого взгляда даже не понять, что у меня что-то не как у других — по крайней мере, так уверяет моя подруга Мэри. Но люди все равно замечают. Зачастую они слишком хорошо воспитаны, чтобы что-то сказать, особенно если уже старше четырех лет, когда дети еще жестоко честны, а потому тычут пальцем и спрашивают матерей, что у этой тети с лицом.
Даже несмотря на то, что шрам поблек, я до сих пор вижу его таким, каким он был после аварии: красным и кровоточащим, неровная стрела молнии, разрушившая симметрию моего лица. В этом я, наверное, похожа на девушку, страдающую нервной анорексией: весит она всего сорок пять килограммов, но ей кажется, что из зеркала на нее смотрит толстуха. Для меня это даже не шрам. Это карта местности, где моя жизнь пошла наперекосяк.
Я выхожу из туалета и чуть не сбиваю с ног старика. Я довольно высокая, поэтому могу разглядеть его розовую лысину сквозь спутанные завитки седых волос.