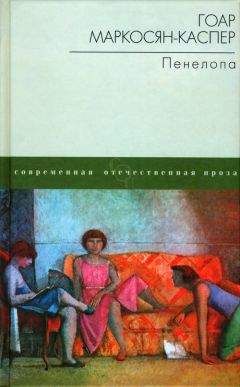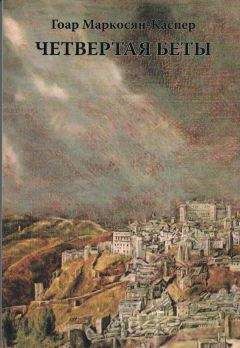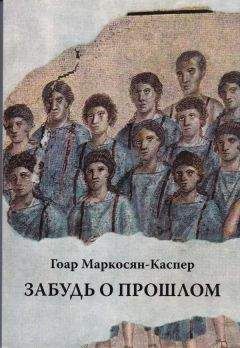Елена - Маркосян-Каспер Гоар
Разрыв (как и, по наблюдениям некого мыслителя, все долгожданное) случился неожиданно. Как-то Елена, к тому времени изрядно расхрабрившаяся, успевшая даже пару раз сходить в кино с подружками, сообщила Абулику, что намерена посетить день рождения однокурсницы.
– А кто там будет? – спросил Абулик настороженно.
– Не знаю, – ответила Елена беззаботно, – кажется, вся наша группа.
В группе, помимо десятка девиц, имелось и несколько ребят, и Абулик не поверил собственным ушам.
– Но я работаю, – сказал он настойчиво, – и не могу составить тебе компанию.
– Ничего, – уронила Елена небрежно, – я пойду одна.
– Одна?! Ах так! – Абулик смерил Елену взглядом кинорежиссера, готовящегося при монтаже выкинуть эпизод с актрисой, отказавшейся с оным режиссером переспать. – Ну что ж. Иди. Топай. Катись. Скатертью дорожка. Только больше не рассчитывай на… на…
– Не буду, – согласилась Елена хладнокровно.
Поскольку соотношение полов в группе, как и по всему мединституту, было неблагоприятным, лишь самую чуточку лучше послевоенного общегосударственного (О медицина! Феминизированная страдалица, отданная на откуп дамам, головы которых способны вместить единственный род рецептов – кулинарные), Елене с Асей пришлось довольствоваться одним провожатым на двоих. Жили девушки недалеко друг от друга, первая на Касьяна, вторая на Киевян, так что, когда к остановке подкатил сорок пятый автобус, тройка погрузилась в него в полном составе и отправилась вверх по Баграмяна. Доставив домой обитавшую на пути следования столь удачно подвернувшегося транспортного средства Асю, Елена с конвоирующим ее сокурсником двинулись дальше пешочком, благо идти было минут пятнадцать-двадцать. В итоге Елениного дома они достигли в полночь – мистический час, когда добропорядочным армянским девушкам полагается быть за воротами родительской крепости, под охраной пушек, кулеврин и катапульт. Подъезд был зловеще освещен тусклой, почти коричневой от пыли лампочкой и пуст, шаги в нем отдавались гулко, как в подземелье замка с привидениями.
– Я поднимусь с тобой наверх, – предложил однокурсник, глядя на струхнувшую Елену, и добавил весело: – Как никак время призраков.
На четвертом этаже Елена облегченно вздохнула и протянула было руку к дверному звонку, как вдруг!.. С погруженной в полумрак лестничной площадки на пролет выше с нечленораздельными воплями, размахивая кулаками, разве что не царапаясь и не кусаясь, низверглось некое… нет, не привидение, а вполне осязаемое, но невменяемое, можно даже сказать, нецивилизованное существо. Сокурсник, ошеломленный этой атакой, на миг застыл наподобие соляного столба, а затем позорно обратился в бегство (правда, позднее он клялся и божился, что существо опознал и посему ретировался, дабы не вмешиваться в «семейный скандал», на что Елена возразила, что семейные скандалы венчаются убийствами ничуть не реже, а наоборот, чаще прочих драк). Абулик, ибо то был, разумеется, он, дергаясь и выкрикивая упреки и обвинения вроде констатации факта, что день рождения по его сведениям завершился час назад, двинулся на Елену, намереваясь, по всей видимости, хорошенько ее вздуть, если не совершить над ней операцию, проведенную Отелло над другой блондинкой (в тот период Елена была золотоволоса, как Афродита), но, по счастью, ему помешало появление здоровенного соседского сына в майке и трусах, а следом и Елениной бабушки в наспех накинутом на ночную сорочку бумазейном халате (родители уже неделю, как колесили по Югославии, любуясь Адриатическим морем, горными пейзажами и иными природными красотами, а также помаленьку подторговывая, а именно, продавая прихваченные на этот случай фотоаппараты и покупая запрещенные то ли к ввозу, то ли к вывозу мохеровые нитки, которые расторопная Осанна торопливо превращала в быстрые в вязке ажурные джемперы, дабы по возвращении, дела вдаль не отлагая, приодеть любимое чадо, а заодно оставить в дураках таможенников, которые несомненно должны были кинуться искать мотки и ярлыки).
– Ты что, совсем спятил? – сказала Елена, приободрившаяся при виде подкреплений. – Успокойся наконец.
Но Абулик успокоиться не пожелал. Он с отчаянием огляделся, убедился, что расправу придется отложить, повернулся и рысцой побежал вниз по лестнице. В следующий раз Елене довелось его увидеть лет через семь, на улице Амиряна, мрачного, как и раньше, но с обновленным реквизитом – в кепке и с собакой на поводке. Он прошел мимо витрины магазина, в котором Елена отстаивала длинную очередь за орехами в шоколаде, и пропал из виду. Потрясенная происшедшей в нем переменой, которую олицетворяли собака (прежде он обожал кошек, развел их в доме аж три, что несказанно раздражало Елену, не терпевшую этих вонючек) и пролетарская кепка, заменившая богемный берет, Елена хотела было побежать вслед и пообщаться, но орехи пересилили, и она осталась в очереди.
Не сразу после разрыва, а только значительно позднее и постепенно Елена осознала полноту психологического рабства, в котором пребывала. При этом, будучи обращенной в рабство насильственно, захвачена и подавлена, со временем она приобрела все черты образцовой рабыни, то есть от отрицания рабства перешла к его одобрению, усвоила шаг за шагом мысли и вкусы своего повелителя, не став разве что футбольной болельщицей, и то потому лишь, что Абулик интересовался футболом в значительной степени вынужденно, в силу служебного положения. Что же он предпочитал футболу, спросите вы – и спросите, наверно, с удивлением. А предпочитал он, дорогой читатель, разговоры об искусстве. Такова была эпоха. Основным занятием огромной массы людей были разговоры. В разговорах советский интеллигент делал открытия, создавал великие произведения, исследовал тонкости политики и нравственности. Образованный широко и глубоко, как Волга, он пассивно плыл по другой реке, реке жизни, плавное, но неумолимое течение которой несло его к мощному руслу Леты, где ему предстояло исчезнуть со всеми своими благими намерениями и грандиозными несвершениями. Именно это должно было произойти и с Абуликом, во всяком случае, к началу нашего повествования он все еще продолжал числиться в редакции спортивных передач, так и не выбравшись из нее в театр и не поставив ни одного спектакля, планы чего он неутомимо строил при Елене (в конце концов, не одни ведь сцены ревности привлекали ее в несостоявшемся служителе муз). Не будем, впрочем, чрезмерно к нему суровы. По возрасту он принадлежал к поколению, которое стоило бы назвать потерянным – при прежнем режиме реализоваться этому поколению не позволило старшее, придерживавшее возможных конкурентов, что в условиях маразматически-деградирующего государства было вполне осуществимо, а при нынешнем его выдавило из жизни напористое, быстро усвоившее новые правила игры младшее… Но вернемся к Елене. К какой-нибудь из Елен.
Елена Аргивская прогуливалась по саду своего отца Тиндерея. На синий, под цвет глаз, пеплос из тонкой шерсти медленно падали белые лепестки с цветущих абрикосовых деревьев. Небо над Еленой было темно-голубое, без единого пятнышка. С дальних гор дул легкий ветерок, колебля низкие ветки, опускавшиеся кое-где до еле опушенной молодой травой земли, и неприбранные прядки волос вокруг надменного, неподвижного, как у статуи, лица.
Елена приблизилась к ограде и сразу же повернулась спиной, знала, не глядя, что за той непременно околачивается десяток юнцов, целыми днями подстерегавших прекрасную дочь Тиндерея в надежде хоть несколько быстротечных мгновений полюбоваться издали ее гибким станом и томной походкой. Клитемнестра, та уделяла своим обожателям куда больше внимания, пока ее не увез Агамемнон, бродила по саду чаще, чем по дому, звонко смеялась и косилась при этом как бы на камни ограды. Не то, что Елена…
Очень надо, подумала она пренебрежительно и ускорила шаги.
На крыльце показался Тиндерей, махнул рукой, подзывая Елену, и когда та подбежала, сказал довольно:
– Правильно делаешь, дочка, что отваживаешь здешних молодых людей. Они тебе не пара. Я найду тебе в мужья царя. Или героя.