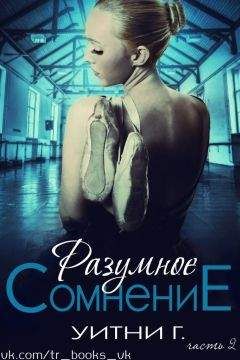Вероник Олми - Первая любовь
Мы вошли вдвоем в монастырь Святого Спасителя. Сели на гладкий-прегладкий прохладный камень, вдохнули горьковатый аромат деревьев и невольно заговорили шепотом. Я вспомнила о летних вечерах, фортепьянных концертах. Сколько нужно было мощи и силы, чтобы музыка завладела этим пространством, предназначенным для тишины! В жизни не обойтись без усилия.
— Ты часто приезжаешь к Кристине? — спросила я шепотом у Зои.
— Раз в месяц. На автомате, как ходят на гимнастику или к психологу. У меня каждый месяц сеанс Кристины, и, даже если мне лень, я знаю, что после сеанса мне будет лучше, чем до него.
— Ты считаешь меня чудовищем?
— Я думаю, что восемьсот километров — это немало, вот и все, мамочка.
— Но все-таки… ты чувствуешь себя лучше после, чем до… Значит, ты ездишь, чтобы избавиться от чувства вины. Как я.
— Воспользуйся местом и исповедуйся.
Мы рассмеялись, и наш приглушенный смех сделал из нас подружек-заговорщиц. Туристы в шортах фотографировали монастырь, потом они ушли, и тут же появились другие, почти в таких же шортах и уж точно с такими же фотоаппаратами. Мир полон кое-как одетых людей, которые очень быстро перемещаются. Зоя продолжала шепотом:
— Я знала, что ты сегодня к ней поедешь, ты мне сказала по телефону, и я приехала к ней раньше на несколько дней. Я хотела повидать тебя и узнать, почему ты оставила папу в день вашего праздника.
— Почему я оставила папу? Я его не оставила. Я прочитала объявление в газете… Нет. Я… Я хотела открыть бутылку вина — отец привез "Поммар", завернув его в газету, — ив этой газете я прочитала объявление.
Зоя посмотрела на меня с удрученным видом ребенка, который внезапно осознал, что мать слабоумная. Она понимала, что ступает по минному полю, что мой следующий ответ удручит ее еще больше, если только это возможно, и делала неимоверные усилия, чтобы выбрать один из множества вопросов, которые мучили ее. Мне захотелось облегчить ей задачу:
— Я еду повидаться с единственным мужчиной, которого любила в своей жизни.
Зоя встала и ушла. На ее месте я поступила бы точно так же.
Дарио уехал из Франции вскоре после Кассиса. В начале сентября он вернулся в Геную. По сути, мы были всего лишь дети и зависели от перемещений наших родителей. Обыденная жизнь банальна. Мы сказали друг другу "до свидания" сентябрьским утром, от которого уже веяло другим временем года, наша история в один миг стала прошлым, и мы не сделали ни одного шага к невозможному и не стали давать друг другу обещаний, которые не смогли бы сдержать. Мы сказали друг другу "до свидания" поспешно и немного смущенно, опечаленные до смерти, и я помню каждую деталь нашего расставания, каждую незначительную дурацкую мелочь, которая стала потом такой важной. Один уголок воротника рубашки так и застрял под светло-зеленым пуловером Дарио, на левом виске я заметила маленький прыщик, а на вилле по соседству неумолчно лаяла собака, заглушая наши голоса. В нашем прощании не было ничего романтического, мы стояли среди сосен, неподалеку от его дома, почти у ворот. Из игровой уже все вынесли. Из его спальни тоже. И кухня с запахом шоколада тоже опустела.
Подошла соседка, первый гонец, желая помочь; она сказала Дарио, что сейчас его позовут. По ее взгляду было видно, что ее забавляют два несмышленыша, которые флиртовали, а теперь прощаются. Наверное, и у нее всплыли смутные воспоминания о каком-нибудь сыне булочника, с которым она проводила время на каникулах в деревне, или о парне с пляжа в Трувиле — летняя экзотика, тема для будущей болтовни с подружками, с хихиканьем и сомнительными признаниями. Собака все лаяла, и нам приходилось повторять наши скупые слова, а когда мы замолчали, тесно прижавшись друг к другу, собака все так же лаяла, и ее лай заполнил наше молчание, распугал мысли, и показалось странным так мучительно горевать.
И действительно, очень скоро мать Дарио стала его звать, очень ласково, — я никогда не говорила ему таких слов: "Сердце мое, ангел мой, Дарио, милый, где же ты?" Поднялся ветер, сделалось зябко, над нами сгустились облака, и потихоньку стал меркнуть свет, все потускнело и не имело уже ни прелести, ни значения. Я вдохнула сколько могла запаха корицы и крема, потому что утром он брился, может быть, ради меня, может быть, ради наших последних поцелуев, но лучше бы он не брился, лучше бы его подбородок кололся и на моем остался след, легкая краснота. Я смотрела ему в глаза, цвет их так часто менялся в зависимости от света, они были сродни небесной синеве Прованса, и я не могла бы точно сказать, какие они. Я слышала его сердце — или свое? Двух трепещущих птиц, они судорожно бились, а потом послышался горловой странный звук, он всхлипнул и ушел, чуть горбясь, впервые неуклюжий, впервые не в ладу с собой, он споткнулся о камень, но не упал, выпрямился — и все. Больше ничего. Зеленый удаляющийся пуловер, радостный вскрик его матери. Хлопнула дверца, заурчал мотор, и машина уехала.
Я осталась среди сосен, в нескольких километрах от Экса. Ветер крутил сухие листья. Собака больше не лаяла. Может, ее впустили в дом? Может, прибили? Что мне за дело? Я просто стояла и поняла, что жизнь будет еще долгой. И мне придется притворяться, что она мне интересна. Придется находить хобби, путешествовать, в общем, занимать себя. Я не знала, что пройдет тридцать лет, и Дарио Контадино, покинувший меня, спотыкаясь среди этих сосен, позовет меня. Как будто тридцать лет назад в сентябрьский день он не сел в машину и не хлопнул дверцей, а остановился, держась за ручку, и выкрикнул мое имя.
Я долго искала Зою, бродила по Эксу, я была уверена, что та не уехала. Она хотела, чтобы я ее искала, чтобы опять тратила на нее свое время. Материнство неразлучно с чувством вины. Я ходила по улицам и корила себя, зачем сделала ей больно — как винила себя за несправедливое наказание, опоздание на школьный спектакль, пустой холодильник, невкусно приготовленное мясо, потому что мать всегда должна мочь все: кормить, ухаживать, утешать, понимать и прощать. Может, Зоя и ушла сейчас только для того, чтобы испытать, не растеряла ли я мое материнское всемогущество. Убедиться, что мне довольно одной секунды, чтобы заработало материнское чувство, немного потрепанное, но состоящее целиком и полностью из любви.
Я искала ее по всему Эксу и вспоминала свою мать, которая передоверила мне Кристину, словно передала эстафету. Она осталась верной дочерью Богу Отцу, а Он не слишком заботится о защите своих детей, и они боятся жизни. Случается у них одно плохое, а единственная радость — исполнен-ный долг. Но вот однажды мы с подружкой Франс подслушали ее разговор, а она об этом и знать не знала. Мне тогда было тринадцать лет. В супермаркете в отделе косметики мы с Франс чуть-чуть подкрашивали ресницы, душились бесплатно, пробовали тени и губную помаду, которые не могли купить, которыми нам не разрешалось пользоваться. И вдруг я услышала мамин голос. Она говорила: "Как по-вашему, они не слишком светлые?" — стесняясь и наслаждаясь одновременно. Я у нее такого тона никогда не слышала. Я повернула голову и посмотрела. Мама продела руку в колготки телесного цвета и ждала, что скажет ей продавщица, усталая, равнодушная женщина, у которой на лице было столько краски, сколько не на всякой витрине найдешь.