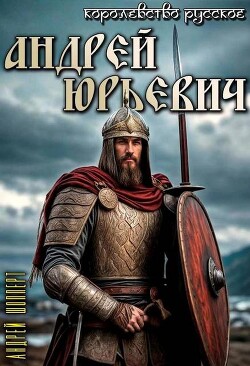Город из воды и песка (ЛП) - Дивайн Мелина
Войнов закончил с блинами. Аккуратно накрыл тарелкой оставшиеся. Пришёл в гостиную к матери. Её сериал был в самом разгаре, вот этот, стандартный, с любовями, изменами, предательствами, сбежавшими мужьями, семейными секретами, потерянными детьми и постно играющими актёрами (кто, блин, вообще в таком соглашался сниматься?). Войнов сел на диван рядом. Проверил телефон — никаких сообщений не было. Он сказал, что в ближайшие две-три недели, скорее всего, улетит в командировку. На несколько месяцев. Мама кивнула. Сказала, что рада, что всё у него так замечательно складывается. Потом они долго молчали, но в какой-то момент Войнов почувствовал, что очень хочет признаться. Невозможно было больше держать это в себе. Он посмотрел на профиль матери — та к нему повернулась, вроде как не понимая, чего он так смотрит, — и Войнов решился:
— Мам, я кое-кого встретил. Действительно очень для меня важного…
— Девушку? — уточнила она.
— Нет, мам. Ты же знаешь, что не девушку.
Мама вздохнула.
— А если бы девушку, жизнь бы у тебя пошла совсем по-другому.
— Перестань, пожалуйста.
— Тридцать четыре уже, Никита. О чём ты только думаешь? Я бы уже за внуками бегала, а не за паршивцем этим, который мне чужой…
— Ладно, мам, всё, проехали.
Войнов успел пожалеть, что сказал. Но мать уже было не остановить.
— Я понимаю, там, по молодости. Сейчас это модно: мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Но тебе надо уже о семье задумываться. А не вот это всё — непонятное.
Войнов стоически молчал. Других вариантов не было.
— Ваше поколение такое получилось неправильное, потому что на каждом углу же трезвонят, показывают: голубые, розовые, разноцветные, непонятно какие. Везде это. Деваться некуда.
— Да где показывают-то, мам? Наоборот, все прячутся. В нашей стране не высунешься.
— Певцы эти всякие, стилисты, дизайнеры. В Европе что происходит…
— А, ну понятно. Телевизор.
— У нас этого не было. Сколько у меня было друзей, знакомых — да не было таких. Ты где насмотрелся, понять не могу. Ох, Никита, Никита…
На этом разговор и закончился. Он, может быть, и продолжался бы ещё какое-то время, но поскольку Войнов не стал его поддерживать — сам собой и потух.
Войнову стало совсем тоскливо. Он поднялся и сходил в другую комнату, которая раньше была его комнатой, а теперь, когда он жил отдельно, стала маминой спальней. Огляделся, заметил, что там прибавилось всякого: образовались несколько стопок журналов, на стене приютились новые репродукции в рамочках с какими-то пасторальными сельскими пейзажами, ещё у стены выстроились обувные коробки (он не проверял, пустые или нет), появилась новая прикроватная лампа (а старая где?), новая прикроватная статуэтка, новая шкатулка, на тумбочке в беспорядке лежали вырезки.
Он посмотрел на всё это — и закрыл дверь. Вернулся в гостиную. Опять сел подле матери. В какой-то момент прильнул к её плечу. Она его не обняла, но и не отодвинулась. Войнов наблюдал за мельканием пресных лиц в пресном сериале. Было так грустно, что захотелось спать. Он забрался на диван с ногами. Подлез матери под руку, устроил голову у неё на коленях. Она слегка поворчала: «Ну что ты делаешь?» — но всё же приобняла его, опустив руку ему на предплечье. Так он и заснул…
* * *
Проснулся рано, до девяти, потому что мать стала хлопотать на кухне. Раньше Войнова было из пушки не разбудить, а в последние годы — просыпался от любого звука и шороха. Говорят, это нервы. Точнее, нервная возбудимость повышена. А как её понизить — хер знает.
Войнов полежал немного, глядя на гобелен во всю противоположную стену. Зачем только мать его повесила? Ну не дворец же Людовика там какого-нибудь. Или не Людовика? Смешно.
Потом всё-таки встал, отправился в туалет и ванную. Принял душ. После отправился на кухню. На завтрак были сырники и клюквенный кисель. Ещё горячий. Мама знала, что кисель он обожает. Сам бы себе в жизни не сварил, и потом опять же — углеводы. Но мамка сварит, на то она и мамка.
Войнов умял два сырника. От сметаны отказался. Запил двумя кружками киселя. Жизнь вроде как налаживалась. Мама рассказывала про какую-то свою подругу, у которой непутёвые дети: сын бухает, дочь второй раз развелась, беременная третьим ребёнком. Потом как-то незаметно речь пошла о шторах: «Слушай, я такие видела красивые шторы в Леруа. Вот не знаю, покупать или нет?»
Войнов слушал вполуха. Голова была забита другим. Он не мог перестать гадать — что всё-таки может быть с Сашей не так? Почему он после третьего бросил учёбу? Войнов бы никогда не поверил, что Саша не тянул. Он читал всякие книжные новинки в оригинале задолго до того, как их переводили на русский. Рассказывал потом на своей страничке о впечатлениях. Причём читал не только на английском, но и на французском. Может быть, случился какой-то конфликт с особенно неприятным преподом? Неужели бы Саша его не уладил? А может быть, просто безответно влюбился, наделал глупостей, забросил учёбу? И теперь его позиция — это «я не завожу отношений, я ни с кем не встречаюсь». Может быть, что-то с собой по глупости сделал? Из-за этого теперь не мог показать полностью лицо — Войнов же видел лишь половину. Или что-то ещё случилось: кризис, болезнь какая-то? А может, он с рождения страдает чем-то неизлечимым, что, ему кажется, его бракует и с чем он так и не смог смириться?
Предположений были десятки, и Войнов ни на одном не мог остановиться. Да и в чём он хоть немного мог быть уверен в отношении Саши? Ни в чём. В том-то и дело. Так сложно любить призрак, бесконечно далёкий, но уже такой бесконечно родной голос в телефоне. Сложно не думать, не представлять себе, как он бы целовал тебя или ты его целовал, как шептал бы ему, прикусывая мочку уха: «Я люблю тебя, маленький. Никого не любил так, понимаешь? Башню рвёт. Сносит нахрен». Санька, Санечка. Где же ты? Где ты, неуловимый мой?
— Ты что, не слушаешь? — вырвал из дум тягостно-сладостных голос матери.
— А? — не понял Войнов.
— Да я всё думаю, на кухню какие лучше — салатовые или жёлтые?
— Жёлтые, — наобум ответил Войнов, не имея никакого представления, о чём его спрашивают. — Пошёл я карниз делать, — вздохнул он, поднимаясь.
После карниза ещё нашлось дело — кашпо повесить, потом мать попросила посмотреть, чего у неё под раковиной подтекает. Оказалось, щель между раковиной и столешницей, разошлось на стыке. Хорошо, оставался ещё герметик с прошлого раза — так что Войнов и раковину засиликонил.
До обеда было ещё далеко, когда он разделался со всеми делами. Мать, правда, попросила в нагрузку посмотреть, что там ей на телефон шлют постоянно. Он очистил переполненную папку входящих смсок и напомнил (не в первый раз) ни на какие послания не откликаться, а самое главное — никому не сообщать свой номер карты, пароль и пин-код. Даже если пишут или звонят якобы из Сбера.
На обед он, ясное дело, не мог не остаться. А то котлеты, супчик куриный. Кому же всё это готовилось? Уже начинало закипать на плите и булькать. Котлет мама с собой тоже непременно положит и супца нальёт в банку. О-ох, но это не блины хоть. Гуд. Куриный супчик материн Войнов любил. Будет что похавать в понедельник, а может, даже и на вторник останется.
Пока суд да дело, пока обед готовился, Войнов ушёл в бывшую свою комнату. Лёг на кровать, скрестив ноги. Нахлынуло вдруг что-то сопливо-ностальгическое. Он всё ещё мог сказать, где какие когда-то висели постеры. Вон там, над дверью, был с Меркьюри в желтой куртке с Уэмбли — Войнов долго его не снимал, даже когда переключился на то, что потяжелее; над кроватью потом висели Ганзы и Цепеллины; одно время на противоположной кровати стене занимали почётное место Металлика и Айрон Мэйден, но они быстро приелись, и Войнов повесил вместо них полуголого безумного Игги и рядом — не менее безумного Оззи. И ещё там же — плакат с чуваками из Трэйнспоттинга. Ах да — справа (достаточно долго) висела самая известная, набившая всем оскомину (и Войнову тоже) фотография Джима Моррисона, та, что с раскинутыми в стороны руками. Чего только не происходило в этой комнате! Порой он её ненавидел! Холодную, выходящую окном во двор, на круглые сутки лишённую солнца сторону. Сколько всего он здесь передумал. Сколько всего осознал. О скольком пожалел. И сколько всего не сбылось…