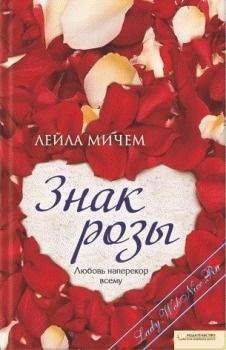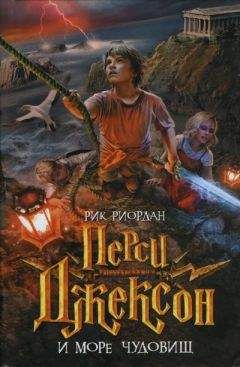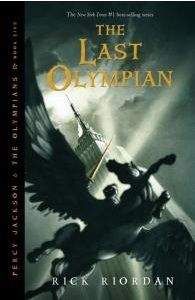Ирина Степановская - На скамейке возле Нотр-Дам
– Кто нас будет встречать? – вдруг разогнулась Лена.
– Какой-то Серж Валли, если я правильно расслышала, – сказала я.
Ленка посмотрела на меня чуть ли не с испугом и стала стягивать с себя кардиган. И потянула к себе мою кожаную куртку, которую я все еще держала в руках. Мари была уже в коридоре у лифта.
– Вот так-то лучше. Слушайся старших! – попробовала я пошутить, но что-то в Ленкином взгляде меня остановило.
– Ну, давай! Чтоб все было хорошо! – Я поцеловала Ленку в щеку и подтолкнула ее к выходу. Она вышла, а я кинулась к окну, чтобы не пропустить момент, когда они будут идти по улице. Я хотела убедиться, что Ленка в моей куртке выглядит как надо. В кардигане было бы хуже. И я в этом убедилась.
Ленка и Мари свернули за угол. Я отвернулась от окна и в одиночестве повалилась на свою постель.
* * *Как я и подумала, имя Сержа Валли было Лене знакомо. Она встретилась с ним как раз в тот вечер, когда была вместе с Валерием на юбилее. Она не запомнила, по какому именно случаю оказались в том доме три французских летчика из группы «Мираж», но один из них показался ей приятным. Это как раз и был Серж Валли. Смуглый, изящный, значительно ниже Валерия ростом, он поцеловал ей руку. И в ее жизни он был вообще единственным мужчиной, который умел это делать. После того вечера она не видела его больше, но ощущение ее руки в его руке и прикосновение его губ возникли в памяти сейчас так ясно, что Лена была ошеломлена. Что же это значит? Она ведь даже забыла его имя.
Большую часть пути до городка, где проходило авиашоу, нужно было проехать по скоростной железной дороге. Мари взяла на себя покупку билетов и посадку в вагон. Оказалось, что билеты она зарезервировала заранее по телефону – примерно за час до отхода поезда. Почему она в этот день не оказалась на работе, я не успела спросить, а Лена даже не подумала. Народу вместе с ними ехала тьма, но давки не было. На перроне все чинно компостировали билеты, по порядку проходили в вагоны и занимали места.
Лена и Мари уселись на втором этаже вагона. Напротив них на мягкой скамейке расположилась многочисленная семья: дородная молодая красавица африканка в ярко-красном платье с монистами, ее высоко-худощавый, белокожий и очень гибкий муж и трое кудрявых ребятишек-полукровок, один из которых еще безмятежно спал в матерчатой сидячей коляске. Лену умилило, как трогательно папаша поправлял ему головенку каждый раз, когда она бессильно падала малышу на грудь, в то время как мать в высоченном золоченом тюрбане восседала величественно и неподвижно. Огромные серьги в ее ушах таинственно покачивались при каждом торможении поезда, и Лена видела, что муж смотрит на нее и на все свое семейство с нескрываемым восхищением и гордостью. Потом на остановке в вагон вошел немолодой человек в поношенной джинсовой куртке и такой же шляпе, закрывающей верхнюю часть лица. Человек что-то негромко, вежливо проговорил, ни к кому конкретно не обращаясь, а Лене даже показалось, что он поет. Она не могла разобрать ни слова, кроме «мерси, мерси».
– Кто это? – спросила она у Мари.
– Это нищий, он просит подаяние.
– Но ему же никто не подает? За что он благодарит?
– Здесь не Москва, где каждому проходимцу возле метро сыплются пятаки.
– У нас пятаки уже давно не сыплются, – заметила Лена.
– Что, перестали подавать нищим? – удивилась Мари.
– Нет, просто меньше, чем десятку, подавать неприлично. Инфляция.
Нищий оказался в проходе возле них. Лена достала из кошелька бумажку в пять евро.
– Ты с ума сошла! – удивилась Мари. – Если хочешь, дай ему несколько центов. Или, уж ладно, так и быть – один евро. Но имей в виду, ты окажешься в целом поезде самой щедрой.
Лена неуверенно смотрела на свою банкноту – дать все-таки или не дать? Нищий тоже смотрел на банкноту с любопытством. Тогда Мари вытащила из кармана монетку в пятьдесят центов и показала ее нищему. Тот ловко сорвал с головы шляпу и перевернул ее. Мари опустила монетку в шляпу. Лена хотела сделать то же самое со своей банкнотой.
– Не смей! – Мари прикрыла Ленины деньги рукой. – Я уже подала ему. А тебе эти евро самой пригодятся.
– Может, он голодный…
– Оставь свои русские глупости. Ты – работаешь, а он – нет.
Нищий понял, что больше ему ничего не светит. Он ловко вынул монету из шляпы и сунул в карман, а шляпу опять водрузил себе на голову.
– Мерси, мадам! – вежливо сказал он Мари. А к Лене обратился: «Спа-си-бо!» – это единственное знакомое ему русское слово он произнес нараспев и дальше враскачку пошел по вагону. Лена посмотрела на Мари:
– За что он поблагодарил меня? Я-то ведь для него ничего не сделала!
– Ты хотела дать ему деньги. И он поблагодарил тебя за внимание, которое ты ему уделила.
– За внимание? На черта ему мое внимание? – Лена сорвалась со своего места, догнала попрошайку и сунула ему в руки злосчастную банкноту.
– Мерси, мерси, мадемуазель! – сказал тот удивленно. Негритянское семейство воззрилось на нее в полном составе, включая проснувшегося малыша.
Лена вернулась на свое место, вся красная.
– Вот уж неистребимая в своей щедрости русская душа! – с некоторой иронией проговорила Мари. – Впрочем, мы подъезжаем!
Лена достала из сумки зеркальце и посмотрелась в него. Мари поднялась со своего места и слегка одернула юбку.
– Если бы ты знала, сколько трудов мне пришлось положить на то, чтобы не смотреться в зеркало ежеминутно.
– Почему не смотреться?
– Потому что ты и без зеркала должна знать – ты единственная и неповторимая в целом мире, – серьезно ответила ей Мари и стала продвигаться к выходу. – Не потеряйся. За мной!
И Лена поспешила за ней, найдя, что в такой толпе ей действительно стоит держаться поблизости от своей тетки.
* * *Я же в это самое время размышляла, как мне провести день. Ничего конкретного в голову не приходило, я подремала, а потом встала и подобрала валявшиеся после Ленкиного ухода вещи. Потом в ванной комнате над раковиной я тщательно перемыла все чашки из-под кофе. Затем навела порядок на тумбочке, где у нас с Ленкой находилось немудреное хозяйство: чай, сахар, чашки да привезенная из Москвы на всякий случай пачка печенья. И как я ни тянула время, до завтрака, прилагавшегося к проживанию в номере, все равно оставалось еще пятнадцать минут. Тогда я подошла к зеркалу, висевшему в крошечной прихожей, и близко, почти вплотную придвинув к нему лицо, уставилась на себя. Я разглядывала себя тщательно, сантиметр за сантиметром, сверху вниз и с одного бока до другого, несколько раз меняя направление взгляда. Мне не нравилось в собственном лице ничего, ни одной детали, рассмотренной ни по отдельности, ни вместе взятыми. Мне не нравились мои глаза, брови, уши, волосы, не говоря уже отдельно о носе, губах и подбородке. Щеки с разных ракурсов казались мне то слишком толстыми, то не в меру выдающимися. Брови слишком густыми, а ресницы, наоборот, слишком тонкими. Глаза мои были невыразительными, а за описание их цвета не взялся бы самый продвинутый литератор: на их тусклом, неопределенном фоне без всякой системы мельтешили дурацкие черточки и загогулины. Губы были не слишком тонкие и не толстые. Они не придавали мне ни очарования, ни злости. В них не было никакого характерного изгиба – ни следа характера, каприза или глупости, которые придают женскому лицу очарование. Ни одного намека на силу воли, решительность или еще на что-нибудь такое, что внешне отличает одного человека от другого, в моем лице не было заметно. Я убедилась, что я была никакая. Но что показалось мне еще более страшным, вместе с этим «никаким» моя кожа уже стала утрачивать и присущую молодости упругость. Я поднесла руку и потрогала свой подбородок. Он показался мне обвислым и мягким. Чтобы рассмотреть лучше свою кожу, я почти прилипла к зеркалу. И вдруг увидела целиком расплывшееся отражение своего лица: на меня из зеркала опять, не мигая, смотрела мудрая черепаха. Она была внимательная и старая. Я ужаснулась, отпрянув, но тут простая мысль остановила меня.