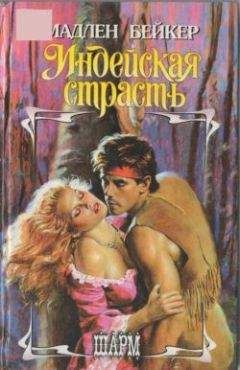Людмила Анисарова - Вы способны улыбнуться незнакомой собаке?
— Сколько можно жить его жизнью? — вопрошала подругу Лена, считая себя более психологически продвинутой.
— Тебе просто повезло, — отвечала Ольгунчик. — У тебя старший брат, а у меня — младший.
— Ну и что, какая разница? — не унималась Лена. — Пока ты будешь вешать на себя все его проблемы, он так и не слезет с твоей шеи. У каждого — свой путь, своя жизнь. Ты просто мешаешь ему проживать то, что ему предназначено. Неужели ты не понимаешь?
Ольгунчик действительно не понимала. Хорошо Лене рассуждать, когда ее брат такой положительный и самостоятельный. Да еще далеко. А Мишка — вот он, рядом. И все у него не клеится, кругом ему не везет. Кто ж ему поможет, интересно? Да, Ольгунчику периодически и денег для него у кого-нибудь приходится занимать, и из истории какой-нибудь выпутывать. А что делать? Бросить на произвол судьбы — спивайся, Мишка! Так, что ли? К кому же он еще пойдет, кому еще расскажет, как не ей, старшей сестре, которая кое-что все-таки в этой жизни понимает?
Но Лена, скептически усмехаясь (особенно на словах, что Ольгунчик что-то в этой жизни понимает), настаивала на том, что подруга все делает неправильно, — и на этом они обычно вдрызг ссорились. Дня на два-три: больше было нельзя, ведь время пребывания Лены в Рязани всегда было ограничено.
Первой не выдерживала Ольгунчик — звонила. И, услышав Ленино «куда ты пропала?», сломя голову мчалась к ней. Они бурно обнимались-целовались, плакали и обещали больше никогда не говорить о том, в чем у них есть расхождения. Потому что, дружно философствовали подруги, каждый все равно останется при своем мнении, никто никого не изменит и надо принимать всех такими, какие они есть.
В эти благостные минуты Лена и Ольгунчик любили друг друга пуще прежнего, и каждая из них спешила согласиться с любой мыслью подруги, подхватывая ее, то есть мысль, на лету, развивая-углубляя и доводя до афористического совершенства.
Ну а теперь — про бабу Зою.
Баба Зоя, соседка, души в Лене не чаяла. Лена ее тоже очень любила. Трудно сказать, за что именно. За все. За мягкий, певучий деревенский говор, которому баба Зоя не изменила, хотя перебралась в город еще в начале пятидесятых, сразу после окончания семилетки. За улыбчивые глаза цвета пересыхающей лесной речки — в гусиных лапках добрых морщинок. За то, что баба Зоя, много чего видевшая в этой жизни, не потеряла детской наивности и веры во все лучшее. Она никогда ни на кого и ни на что не сердилась: ни на погоду, ни на правительство, ни на городские власти. Это толстовское всепрощение многих сильно раздражало.
— Все ей хороши, — с неодобрением говорила другая соседка, тетя Лида, смысл жизни которой сводился к обличению несправедливости и нечестности, царящих вокруг. — Что ни скажи, — возмущалась тетя Лида, — а она: на все воля Божья. Да где ж он, этот бог ее? Вон что кругом творится! Что же он такое допускает? Кто грешит, кто ворует — тот и живет припеваючи. И бог Зойкин что-то никого из них не наказывает, а все нам, нищете, достается. Вот тебе и бог!
Надо сказать, что тетя Лида к Лене относилась с уважением. Но дружбы ее с Зойкой, как она называла бабу Зою, не одобряла и при каждом удобном случае норовила перетянуть Лену на свою сторону.
Вера Петровна ревновала дочь к ним обеим, часто в сердцах роняла: «Соседи тебе дороже матери». И уходила в свою комнату, плотно прикрыв дверь.
Лена страдала оттого, что не может растолковать маме всю несостоятельность этого ее убеждения, что не может лишний раз обнять ее и сказать, что любит, ценит, что именно она, мама, дороже для нее всех на свете. Вера Петровна этого ждала. Очень ждала. А Лена, недополучившая в свое время материнской ласки и нежности, не могла преодолеть преграду, образовавшуюся когда-то очень-очень давно и так мешавшую им обеим — матери и дочери.
Вера Петровна, не в силах понять то, что любой психолог объяснил бы сейчас в два счета, винила дочь в бессердечии и жестокости. И очень обижалась, если Лена, пытаясь оправдаться, иногда заводила принципиальный разговор с целью выяснить отношения.
— Мама, вспомни, как ты меня воспитывала. Без всяких телячьих нежностей, как ты любила говорить. Сплошные запреты и сплошные «надо». Теперь ты хочешь от меня нежности и любви, а я…
— Как же, дождешься от тебя! — перебивала Вера Петровна и уходила, никогда не дослушав самого главного, в свою комнату. И уже оттуда кричала: — Можно подумать, что тебя розгами каждый день секли!
Нет, не секли, думала Лена. Конечно, не секли. Но чуть ли не каждый день давали понять, что если бы не родительское воспитание, то из Лены вышло бы непонятно что.
Станислав Степанович, Ленин папа, боготворил свою жену Верушу, как он ее называл. В семье царил ее культ, незыблемый и безоговорочный, против чего их дочь периодически бунтовала. Натура свободолюбивая и независимая, она никогда не понимала, почему взрослые всегда правы только на том основании, что они взрослые. И если, как ей казалось, мама с папой были в чем-то не правы (а к маме претензий было больше, потому что она постоянно была дома), она пыталась доказать им это. Но подобные попытки неизменно воспринимались как черная неблагодарность и хамство.
Папа со своей железной логикой всегда умел объяснить Лене, что ее номер — пятый и что она ничего пока собой не представляет. И то, что папа говорил «номер пятый», было особенно обидно и унизительно, потому что жили они без бабушек и дедушек, вчетвером.
Саша, старший брат, с родителями никогда не спорил и был на хорошем счету. Иногда, жалея Лену, учил: «Да соглашайся ты со всем, а делай по-своему». Но, во-первых, ничего сделать по-своему ей никто бы никогда не разрешил. А во-вторых, как же соглашаться, если они не правы?
Когда брат поступил в Ленинградское военно-морское училище, Лена решила, что после школы тоже обязательно уедет от родителей в другой город. В Москву или, как Сашка, в Ленинград. Для этого нужно было выбрать такой институт, которого в Рязани «не было. Только такая причина, как представлялось Лене, могла приняться родителями во внимание.
Вера Петровна очень хотела, чтобы Лена поступила на инфак в педагогический, а Станислав Степанович мечтал, чтобы дочь стала врачом. Кроме того, что у Лены была светлая голова, как говорил папа, и училась она только на «отлично», — в педагогическом и медицинском у родителей были связи. Поэтому никто не сомневался, что будет или так, как задумала мама, или так, как хотел папа.
Лена до поры до времени молчала. А потом, ближе к выпускным экзаменам, заявила: «В МГУ, на журналистику — больше никуда поступать не буду».
Папа долго вел с Леной на кухне взрослый серьезный разговор, объяснял, что для того, чтобы стать журналисткой, в Москву ехать совсем не обязательно. Дело не в дипломе — а в призвании. Учись на литфаке, а потом пиши сколько хочешь — вот и будешь журналисткой. Лена доказывала обратное, И при этом, разумеется, скрывала свои истинные намерения: навсегда вырваться из родительского гнезда.