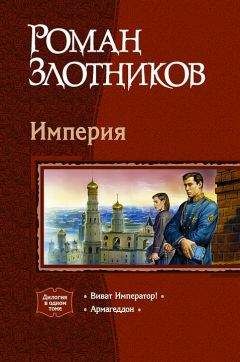Единственное число любви - Барыкова Мария
— Овчарка?! — И то, что он сказал именно «овчарка», а не «собака», сразу расположило к нему не только меня, но и Амура, который в нарушение своих принципов тут же подбежал и принялся с интересом обнюхивать черные от земли штанины. — Ну что, запахи действительно упоительные, но для тебя малоперспективные, — рассмеялся человек в робе, беспечно пронеся руку мимо внушительной пасти, в теплую шерсть незащищенного собачьего горла. — И все-таки это не дело — тебе здесь прогуливаться! Давай-ка, парень, двигайся к выходу.
Удивленная столь человеческими речами, я постаралась скорей взять Амура за ошейник; говоривший поднял голову, и я начала предательски краснеть: он оказался тем самым драконом, которого Владислав так глупо унизил пару недель назад. Теперь мне в лицо смотрели те же глаза, с точно таким же выражением обвинения и прощения одновременно.
— Извините, — пролепетала я, — мы… собака выгулена, мы только побегать…
— Я понимаю, — мягко остановил он, — у меня у самого красавец, но ведь и вы прекрасно понимаете, что ежели так поступать будет каждый… правда?
— Правда. — Я прижала к ногам Амура и неизвестно зачем брякнула: — Вы извините, что тогда мой муж… он не хотел вас обидеть, просто была такая ситуация, у нас умер друг…
Человек на секунду свел лохматые брови — из левой завивался длинный черный волос — и, по-видимому, только тогда вспомнил меня. Вернее, не меня, а случившееся. Но не нахмурился и, в отличие от меня, не покраснел — улыбнулся.
— Случай не стоит того, чтобы помнить о нем так долго. Ваш муж был прав относительно работяги. — Значит, он помнил, и помнил очень хорошо, и, значит, тогда ему было неприятно. Я уже злилась на себя за бестактность затеянного разговора.
— Все равно. Извините, пожалуйста, — твердо повторила я. — Мы уходим. — И, отпустив Амура, пристыженно державшего хвост вертикально вниз, повернулась в сторону главного входа.
Я шла, деревенея спиной и чувствуя, как сторож — или кто там он был — неотступно идет за нами, деликатно оставаясь невидимым. Мы уже миновали каменные ворота оранжерей, в рассыпающихся ступенях и стершейся дате которых вздыхали античность и мое детство, и вышли к горкам. Они, как обычно, весело пестрели лоскутным одеялом, но по ним, подобно черному пауку, медленно и в то же время как-то суетливо передвигалась невысокая фигурка. Амур неуверенно приподнял загривок, сбавляя шаг, и, держась бок о бок, мы подошли поближе.
Фигурка при ближайшем рассмотрении оказалась седоватым старичком в пасторском балахоне, совершавшим весьма странные действия. Вместо того чтобы поливать, или полоть, или рыхлить, он переползал от цветка к цветку, при этом напряженно всматриваясь в асфальтированные узкие дорожки, оплетшие горку. Иногда он нагибался и делал руками движение, будто ловит кого-то, а порой останавливался и крестил растение откровенным протестантским крестом. На миг мне почудилось, что я сплю, но поношенные туфли старичка с большими медными пряжками отчаянно скрипели. Мы сделали еще несколько шагов и услышали уже совершенно явственно:
— Nun, nun… Пфуй, как нехорош! Иди-ка суда, Weglaufer! — Старик снова наклонился, но тут же проворно вскочил и хлопнул себя по лбу. — Allmachtigen Gott! Час пополудни, а меня ждать Штеффель и его двести штук букшбому! — Продолжая невнятно бормотать что-то по-немецки, старик подхватил подол потертой сутаны и скрылся за горкой.
Но на месте, где он только что был, еще продолжал волноваться голубоватый воздух. Амур прижал уши и мужественно не двигался. Я беспомощно оглянулась.
И, словно на мой взгляд, из-за угла оранжереи появился сторож.
— Все в порядке, — улыбнулся он. — Это старик Вильгельм ловит куриозные планты. Они, мерзавцы, видите ли, до сих пор имеют склонность убегать за положенные им пределы. Чесночница, недотрога, не говоря уже о дикой ромашке, которая заполонила всю Россию… Вот он и переживает. К тому же, понимаете, немецкая Punktlichkeit… — Мы с Амуром растерянно молчали, а дядька несколько нервно оглянулся и вдруг предложил: — Пойдемте-ка лучше со мной — зачем вам неприятности? А так вы выйдете прямо к Кублицким.
Последнее замечание поразило меня гораздо больше, чем никак не ожидаемое желание помочь и даже чем загадочный пастор: то, что рядом с Ботаничкой жил отчим Блока, полковник лейб-гренадер, знали отнюдь не все из моих знакомых.
Мы молча пошли в дальний угол сада: синяя роба впереди, потом пес, которого, вероятно, не отпускали ее запахи, и последней я, уже уступающая настырному бесу любопытства.
Через пять минут перед нами оказалась стена из тех же глянцевитых лопухов, что обожгли мне руки на никласовской даче. Ожоги, кстати, только-только успели пройти. Я невольно придержала Амура.
— Ничего страшного, — спокойно сказал странный работяга, вытягивая тем не менее из кармана яркие фирменные рукавицы, — собаке пупырь не опасен, а для вас мы сделаем вот так. — И ловким движением руки он на несколько мгновений открыл мне проход в теплом зеленом полумраке, на другой стороне которого оказалась крошечная калитка. — Толкните, она не заперта, свинушка [6] даже снаружи прикрывает ее вполне надежно.
Мы нырнули, а когда я обернулась, чтобы поблагодарить, не увидела ничего, кроме тяжелых листьев на ребристых колонках стеблей. На другой стороне улицы действительно виднелось юношеское жилище Блока.
— Дивные дела творятся у нас, правда, Амурушка? Нам с тобой подарили еще одну маленькую тайну, даже две, и мы ими ни с кем больше не поделимся, согласен? — Но Амур уже нетерпеливо рвался к проходившей по набережной далматинке, чей пятнистый род был метко прозван острыми на язык собачниками «петмолом».
5
Мы еще несколько раз появлялись в саду, не прибегая к заветной калиточке, но никого больше не встретили. Я тщетно поискала на табличках название букшбом и бесплодно прошлась пару раз по горкам, а вскоре зарядили дожди, и вылазки наши прекратились сами собой. Я ничего не рассказала Владиславу, полагая, что ему неприятно будет воспоминание о собственной глупости, да и сам инцидент не заслуживал обсуждения. А история про ловца плантов в отрыве от предыдущего и вовсе выглядела идиотской. Но, пусть и не желая признаваться себе в намеренности своих маршрутов, я пару раз все же прошлась мимо злосчастной клумбы — увы, она уже пестрела цветами и не требовала ничьего присутствия. Я понимала, что все это бред, но хорошо знала и то, что самое интересное зачастую рождается именно из бреда. Пользуясь полной свободой собачников в разговорах, я поинтересовалась, не знает ли, случайно, кто из них такого черноволосого бородатого дядьку с псом невероятной красоты и якобы запамятованной мною породы. Про то, что я забыла породу, мне, как неофитке, даже поверили, но про хозяина ничего не знали и хором уверили меня, что, соответственно, такового и нет в природе. Я с радостью с этим согласилась, тем более что приближался сороковой день и меня уже задергала прокуратура, безнадежно выяснявшая, кому мог вдруг помешать живший чуть ли не анахоретом Никлас.
Над городом звенели веселые грозы, ненадолго оживляя так быстро устававшую городскую зелень. Гуляя с Амуром и уже не опасаясь его побега, я подолгу смотрела на какие-то чахлые травинки и корявые кусты, испытывая перед ними тихую вину даже не за то, что ничем не могу им помочь, как помогаю собаке, но за то, что они так и умрут безымянными и неназванными, а значит, и не существовавшими вообще. Сознание Вины, не отпускавшее меня с того жаркого утра, когда я приехала к Никласу на дачу, и почему-то острее всего ощущавшееся в том, что я так и не спросила у него названия диковинных лопухов, теперь, после того как они столь неожиданно были узнаны, превратилось в серую тоску безразличия и беспомощной любви к затоптанным и загаженным городским растениям. Заметив, что как-то раз я принесла домой и поставила на кухне букетик неизвестной пыльной травки, Владислав стал покупать стильные букеты со множеством прихотливо-кружевной зелени.