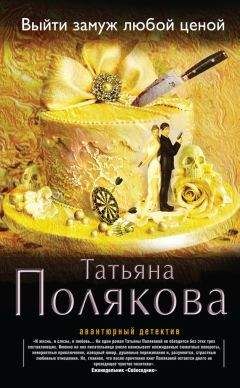Жажда, или за кого выйти замуж - Успенская-Ошанина Татьяна
Домой они с Анатолием шли в тот день очень медленно. Дождь уже прошёл, в воздухе висла сырость, было промозгло, как всегда осенью.
— Толя, скажи, чего тебе хочется вкусненького, — спросила. — Я приготовлю.
Он пожимает плечами.
— Всё, что любишь ты, вкусно, всё, что готовишь, я люблю.
— Так неинтересно. Мне хочется сделать тебе то, что любишь ты.
Он удивлённо посмотрел на неё. Глаза — усталые, кожа — пепельная, нос заострился, под глазами — тени.
«Вот за чей счёт ты разбухаешь!» — жёстко сказала она себе. Спросила тревожно:
— Зачем ты так много работаешь? Я получаю хорошую зарплату. И ты получаешь хорошую зарплату. Разве этого нам мало?
Он загадочно улыбнулся:
— Когда-нибудь узнаешь. Всё тайное становится явным. Скрывай не скрывай. Так надо. Не мучайся.
Почему-то тогда она отступила. Анатолий вполне доволен своей жизнью, уговаривала она себя. Араз ему хорошо, зачем из-за него мучиться?
Лёгкое любопытство вспыхнуло в ней к Толиной жизни и погасло. Так радостно, так удобно у них в доме!
Росла Катюшка.
— Папа! — бежала навстречу, в одно мгновение оказывалась у него на руках.
Он играл с ней, строил самолётики и дома из конструктора, скакал с ней через верёвку и учил вместе с ней стихи. Дочка, покупки, прачечные и чистки, уборка, завтраки — всё на плечах Анатолия. Нравится ему ограждать её от жизни, баловать и любить — пусть, значит, так тому и быть.
Но беспокойство, рождённое: под проливным дождём, в разговоре с Тамарой, осталось. Ведь не заметит она, как перестанет ускоряться бег её сердца при виде чужого горя. Пусть дома уют и покой; она попробует сопротивляться идущему в ней процессу вытеснения чувства сострадания равнодушием.
— Коля! — остановила она его у выхода из палаты. Тамара уехала на улицу Еланского, в старое здание клиники, и Коля был сам по себе, что случалось крайне редко. — У меня к тебе просьба, пойдём погуляем. Здоровый морозец, прочистим лёгкие!
Николай не удивился. Скажет ему Катерина «Прыгни с вышки», он прыгнет. Скажет «Съешь змею», он съест. Для Николая Катерина — над всеми. Благодарность ли за спасение Тамариной жизни, как был уверен Николай, просто ли обыкновенная симпатия, а может быть, то, что у Тамары Катерина — единственная подруга, а может, всё вместе — ей всё равно, важно то, что он вот он, около, готовый идти с ней куда угодно.
Выйти на морозец оказалось легко, а заговорить — невозможно.
Как это — вторгнуться в чужую жизнь? Да ещё в жизнь интимную, в которую не вхож никто. Пусть они — врачи, обязанные вламываться именно в неё, но то больные — посторонние люди, выписались, и нет их больше в твоей жизни. А тут товарищи, коллеги, единственная близкая подруга.
Николай молчал. Только курил. Был он спокоен, как спокоен человек с чистой совестью. Он совсем не изменился с тех пор, как женился на Тамаре: такой же тонкий, с тёмными синяками под глазами, такой же пристальный взгляд у него. Новое в нём — уверенность в себе. Кому-то, может, и незаметная, а Катерине она видна: Николай знает, чего хочет в жизни, и своим упорством пробьёт всё, что нужно пробить. И кандидатскую защитит, и докторскую, и врачом крупным станет и, может быть, даже совершит в их науке переворот.
— Прости, что оторвала тебя от твоих дел и что вторгаюсь в область, в которую вторгаться не смею, — сказала наконец. И Сильно заколотилось сердце. Как она обрадовалась этому! Значит, не так уж она и заросла сорняком. — Коля, ты уверен, что будешь долго жить?
От неожиданности Николай остановился, даже сигарету от губ отвёл. Поднялись брови, и лицо сразу стало детским.
— Над каждым из нас судьба, так? Ты вот куришь! Как врач, ты должен знать, какой процент курящих гибнет от рака лёгких.
— Я тебя не понимаю, — тихо сказал Николай и затянулся. — К чему ты это?
— Ты уверен, что умрёшь позже Тамары? Прошу, ответь на мой вопрос.
Он пожал плечами.
— Глупо утверждать, что будет именно так. И, честно говоря, я предпочёл бы умереть раньше Тамары.
— Вот мы и договорились. Как произойдёт в жизни, мы с тобой не знаем, но такая вероятность — ты можешь умереть раньше Тамары — существует, верно ведь?
— Ну?! — кивнул Коля.
— Как она останется совсем одна, ты подумал?
Николай растерянно моргнул.
— Почему одна? А я? Куда денусь я? Собственно, почему я должен умереть? И зачем заглядывать на много лет вперёд? И почему ты думаешь, что ребёнок спасёт от одиночества? Смотря какой ребёнок… Я вот для своих родителей не подарок. Не звоню по месяцам. Вовсе не хочу, чтобы Тамара такого выродила.
— Всё зависит от воспитания.
Николай присвистнул:
— Думаю, от генетики зависит ничуть не меньше.
Но Николай задумался. Она это видела по бровям, которые вновь недоумённо поднялись над детскими глазами. Он затягивался глубоко, глубже обычного.
— И потом… — тихо сказала Катерина, — дело не только в том, кто когда умрёт, дело в любви. Если ты любишь её, а она так сильно хочет ребёнка…
— Я терпеть не могу детей, Катя. Писк, капризы, сопли, бессонные ночи… Дети — это прорва, всё в них бухаешь, и всего мало, никакой от них благодарности. Видеть не могу детей. У моего приятеля — трое. Это ужас, стихийное бедствие. Орут, дерутся, лезут во взрослую жизнь. Я нагляделся! Приятели стареют на глазах, дети наглеют.
— Это будет твой ребёнок, твоя плоть, твоя кровь, твой голос, твои глаза. Или Тамарины. Ты же любишь Тамару! А может, ты её. уже не любишь?. Или любишь только потому, что она дарит тебе удовольствие и обслуживает тебя?…
Катя устала от него. Молодой, совсем ещё не нюхавший жизни, он, конечно, не может понять Тамару, изведавшую одиночество, прожившую до него целую жизнь. Он не может понять её страха перед одиночеством. Новое одиночество пережить будет много труднее, так как теперь она знает, что такое неодиночество.
— Что ты хочешь от меня? — тихо спросил Николай. — Она, видимо, не может родить?!
— Может, — твёрдо сказала Катерина. — Она может родить. С ней всё в порядке. Пойти к врачу нужно тебе.
То ли морозец, хватающий за щёки и нос, то ли незапланированная прогулка посреди рабочего дня, то ли разговор с Николаем, который, видимо, сдвинул Николая с мёртвой точки, она почувствовала это, только Катерина ощутила себя бодрой и способной видеть больных прежним своим взглядом. Нет, она не зажирела, не проросла равнодушием — так же, как и раньше, она способна раствориться в чужой судьбе. …
Около входа в отделение её ждала женщина. По холлу, не останавливаясь ни на мгновение, даже не притормаживая, бегал двухлетний ребёнок. Кругами, по диагоналям. Рисунок его бега был причудлив, и предугадать его было невозможно.
— Катерина Фёдоровна! — кинулась к ней женщина.
Это была Верочка.
Всё в ней прежнее: груди «навыпуск», пышные волосы, неумеренная краска на лице. Только глаза совсем другие — чистые, промытые, неправдоподобно счастливые.
В кресле холла лежали цветы — ярко-красные летние гвоздики.
От волнения, от радости встречи Верочка не могла вымолвить ни слова, и Катерина молчала.
Вот он, смысл ее жизни и работы: ни на кого и ни на, что не обращая внимания, прокладывает свои дороги в этом сложном, непредсказуемом мире. Волосы у ребёнка — тёмные, глаза — светлые. Плотное тельце. И пунцовые щёки, кричащие о здоровье.
— Странно, почему у него тёмные волосы? — наконец заговорила Катерина.
— У меня же тёмные! Это я крашусь, я всегда крашусь, с семнадцати лет. Мужик любит светлый волос, — зачастила Верочка. — И… это — она, это — дочка, понимаете, дочка?!
Катерина засмеялась.
— Смотря какой мужик. Один любит светлый волос, другой — тёмный, а третий — и вовсе рыжий. Ну рассказывай, как живёшь?
Прежде чем заговорить снова, Верочка осторожно, как ребёнка, подняла с кресла цветы, обеими, руками протянула: