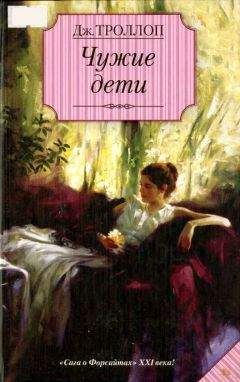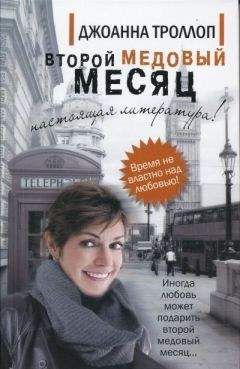Джоанна Троллоп - Испанский любовник
Лиззи начала яростно оттирать грязную кастрюлю мокрой губной.
– Это почему?
– Чтобы не допустить распространения гомосексуализма.
– Послушайте, о чем вы говорите! – раздраженно сказала Лиззи. – Какая-то белиберда. Неужели вы не понимаете, неужели не понимаете, что сегодня Рождество?
– Сегодня Рождество? – спросил Дэйви у дедушки.
– Да.
– По-моему, это как-то не очень похоже на Рождество.
– Да, не похоже, – ответил ему Уильям.
Завтрак прошел в напряженной атмосфере, без Гарриет, сразу после семи, потому что к тому времени все уже были на ногах. Алистер не преминул отметить, что завтракает намного раньше, чем в будний день. Единственным одетым человеком был Роберт. Будучи еще в халате, он отправился за дровами для камина, но дверь случайно захлопнулась, а Лиззи и Барбара не заметили этого. Так то Роберту пришлось кружить вокруг дома в кромешной тьме, то разъяренно крича, то умоляюще стеная, чтобы его впустили в дом. Дверь ему в конце концов открыл Уильям, услышавший его вопли.
– Мой дорогой мальчик, я надеюсь, что ты не пробыл там всю ночь?
Роберт еле удержался, чтобы не ответить: „Не будьте таким идиотом", – и поднялся наверх, в ванную. Он любил Уильяма и был ему за многое благодарен, но и раздражался на тестя легко. Или напускное равнодушие Уильяма скрывало ум, причем сильный, подобный стальному катку, или же его тестю чертовски везло. Роберт считал его отношения с Джулиет бессмысленными и старомодными, вроде затянувшейся детской привычки, из которой Уильям никак не мог вырасти. Роберт ни разу не изменил Лиззи в течение семнадцати лет. Он к этому и не стремился. Как такой человек, как Лиззи, мог вырасти в этой странной семье? В семье, где был Уильям, где была Барбара с ее повелительностью и дутым феминизмом? Где была Фрэнсис, влекомая по жизни подобно кораблю без капитана. Но там была и Лиззи!
Включая воду и вешая свой одеревеневший халат на батарею, Роберт решил не говорить Лиззи, пока у нее не поубавится забот, о том, как плохо в этом году шли дела в „Галерее" в предрождественский период. Ему очень хотелось рассказать ей об этом, поделиться своей обеспокоенностью.
Приняв ванну, он почувствовал себя бодрее. Но это состояние продлилось только до завтрака. Дэйви, облопавшийся шоколадом из чулка, ничего не ел, но зато вертелся на стуле в своей нелюбимой пижаме, отказываясь, однако, надеть халат, обозванный Сэмом девчачьим, поскольку у него не было пояса. Сэм ел жадно и все время издавал смешки, развлекая себя своими туалетными шуточками. Алистер, тяжело дыша, пристально смотрел через стекла очков на ближайшую к нему коробку с хлопьями и читал напечатанные на ней правила какого-то конкурса так, словно они были величайшим достижением мировой литературы. Лиззи выглядела измотанной, Барбара – возмущенной, а Уильям, судя по всему, находился где-то далеко в своих мечтах. Пустующий стул Гарриет красноречиво свидетельствовал о надвигавшейся буре: она вышла на тропу войны нервов и не успокоится, пока не победит.
Роберт подумал: „Как было бы хорошо, если бы мы вдвоем с Лиззи оказались сейчас в Севилье. Только вдвоем, никаких детей, никаких тещи и тестя, никакого Рождества, никакой необходимости устраивать веселье для других".
Он попытался встретиться с женой взглядом. Лиззи наливала кофе Уильяму, и ее волосы упали вперед, на щеки. Она глубоко вздохнула, как бы пытаясь себя приободрить, и наконец сказала:
– А сейчас мы все идем в церковь. На рождественскую службу. Петь псалмы.
Сэм недовольно буркнул что-то. Барбара сказала:
– Не глупи. Я никогда не хожу в церковь.
– Мама…
Алистер восхищенно взглянул на бабушку.
– Правда?
– Ты прекрасно это знаешь. Это все пустая трата времени и сил.
– Ну мама, это же Рождество, – умоляюще проговорила Лиззи. – Ты же обычно…
– Я пойду с вами, – перебил ее Уильям. – И Дэйви. Нам с Дэйви надо немного попеть.
– Я не иду, – объявил Алистер. Лиззи, упираясь руками в стол, заявила:
– В течение всех последних лет мы каждое рождественское утро всей семьей ходили в приходскую церковь Ленгуорта петь рождественские гимны, и сегодня мы тоже обязательно этим займемся.
– Я пас, – твердо сказала Барбара. Роберт подался вперед.
– Я пойду.
– А я – нет! – закричал из-под стола Сэм. Уильям встал, подошел к Дэйви и поднял его на руки.
– Дэйви и я пойдем оденемся для церкви.
Дэйви явно пребывал в нерешительности. Вот если бы Сэм…
Алистер сказал:
– Я предлагаю, чтобы те, кто хочет пойти в церковь, спели бы там и за меня.
– Не умничай, – отрезал Роберт.
– Мой дорогой папа…
Уильям объявил, вынося Дэйви из кухни:
– Вся штука с рождественскими гимнами в том, что все до единого знают их слова, даже те, кто еще не умеет читать.
Они стали подниматься по лестнице. Дверь в комнату Гарриет была открыта, но ванная оказалась заперта, и из нее доносился грохот рока. Уильям положил Дэйви в свою кровать и накрыл одеялом, чтобы согреть. Он делал точно так же и с близняшками, давно, по воскресеньям, когда Барбара уходила к раннему причастию, оставляя на него детей. Тогда она была настроена настолько же в пользу церкви, насколько сейчас против нее. Уильям всегда любил церковные песнопения. Их спокойный ритм сочетался с его собственным представлением о древних христианских заповедях терпения и сострадания в противовес всему резкому и насильственному. А в каждой большой семье неизбежно присутствует какая-то напряженность, когда отдельные личности борются за одно и то же пространство не оттого, что его мало, а потому что они твердо убеждены в необходимости этой борьбы. Не от этого ли убежала Фрэнсис? Не к такому ли бегству толкала ее жизнь, несомненно, гораздо более запутанная и закрытая, чем у Лиззи? Жизнь, не дававшая ей единения с семьей. Или, может, думал Уильям, своим отсутствием она сознательно указывала на то, что не стоит рассчитывать на ее благодарность лишь за возможность быть поглощенной семейным кругом в Грейндже на празднике Рождества? Ее письмо, оставленное для Барбары и Уильяма в приготовленной для них спальне, было таким коротким! Она просто извинялась за то, что может кого-то расстроить, но у нее появилось многообещающее деловое предложение. Это, конечно, было глупое, уклончивое, даже лживое письмо. Но, видимо, она не только не могла открыть правду, но и не хотела.
Джулиет однажды сказала ему:
– Полмира живет в зависти к другой половине, а эта другая половина никак не может понять, почему остальные не возьмутся за ум и не начнут жить так, как они. Ты понимаешь?
– Нет, – ответил Уильям.
– Я хочу сказать, что одна половина людей управляет, а другая подчиняется.