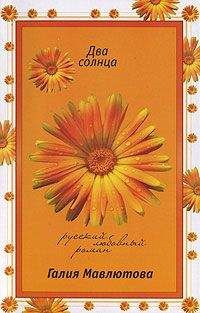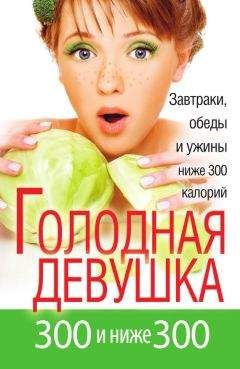Галия Мавлютова - Прыжок домашней львицы
Валентина молча стояла перед закрытой дверью отдела. Решетчатое окошечко настороженно наблюдало за ней. Старинное здание околоточного участка, специально построенное для полицейских нужд еще в девятнадцатом веке, выдержало пять революций, одну блокаду и три карточные системы. Ему все было нипочем, но перед напористой Валей видавшее виды здание явно трусило. Женщина изо всей силы пнула ногой металлическую дверь, дом нервно содрогнулся. Где-то в глубине раздался тоскливый плач сотрудников. Они тоже трусили. Но капитан ничего не слышал, вероломный Бронштейн давно покинул административное здание, ведь до зарплаты было далеко.
– Ох, Лева, – трагическим шепотом проревела Валентина.
Женщина больше не смеялась. Обидно до слез. В груди жжет. Внутри бушует пожар. Валентине было не до смеха, у нее муж сбежал из семейного очага. Все трещало, но горели не дрова и не уголь, это трещала по швам Валина любовь. Трусливое здание затаилось. Оно хранило таинственное молчание, загадочно пришипившись. Валя тоже задумалась. Она потрясла высоко поднятой ногой, опустила ее, дом не виноват, нечего колотиться. Валентина часто задышала. Аппетитная грудь заметно заволновалась. Супруга капитана неожиданно успокоилась. А что ей еще оставалось делать? Можно, разумеется, выдвигать ультиматумы, ноты, бойкоты, но перед кем выпячиваться? Не перед кем. Закрытая дверь безмолвствовала. На крылечке появились какие-то люди. Валя оглянулась. Мелкие, совсем не люди, людишки, испуганные какие-то, нервные, забитые. Наверное, хотят получить паспорт взамен украденного или утраченного, мечтают пожаловаться на мздоимцев и грабителей, воров и соседей, на начальство. Да пустая трата времени эти жалобы. Толкотня и воркотня, суета сует. Настоящие потерпевшие на околоточное крылечко уже не придут. Настоящие потерпевшие потерпели по-крупному. Прямиком отправились на тот свет. Ушли за правдой, говорят, там ее много. Может, кто-нибудь и найдет. А здесь, на крыльце, ее нет. Здесь ничего нет. Даже капитана Левы. Валя презрительно хмыкнула. Внутренний голос подсказал ей, что Бронштейна нет в отделе. Капитан бросился в бега, он скрывается в засаде или прячется в кустах, прикрываясь оперативным заданием. Пропал ни за грош в бессрочной командировке.
В Валином шепоте было нечто страдальческое, любовное, прощенческое, грозные ноты заметно поутихли, плавно перейдя в минор. Дверь жалобно заскрипела на ржавых петлях, будто почувствовала изменение. На улицу Якубовского осторожно выглянул востроносенький дежурный. Опасливо покосился на грудь Валентины, будто это была не женская грудь, а снаряд тяжелой артиллерии, помешкал, помялся, но справился с внутренним дискомфортом.
– Валентина, иди уже домой, иди по-хорошему, Левы все равно нету. Он, наверное, в засаде сидит. Уже третьи сутки. Может, внедряется в какую-нибудь банду. Ой! Ой-ой…
– Уйди ты, – прошипела Валентина, – хлюст. Пиявка.
Дежурный испуганно юркнул за дверь. Зловеще громыхнула щеколда. Посетители зябко поежились. Наверное, поняли, что никаких паспортов они не получат. Потрясая квитанциями об уплате административных штрафов, жалобщики и просители впились яростными взорами в пышную грудь налетчицы. В эту минуту злополучная грудь являлась источником всех их бед и несчастий. Валентина сердито отмахнулась от настойчивых взглядов. Жена капитана не опускалась до склок и скандалов с посетителями, она органически не переносила интриганов. Валя любила одного капитана Леву, всей душой любила, включая остальные части тела. И любящая женщина помчалась вдоль улицы Якубовского, помахивая юбкой, как флагом. И повсюду ей мерещился пропавший без вести капитан Бронштейн. Но она недолго будет отсутствовать на крыльце, новые обстоятельства вновь вернут женщину на старое крыльцо. Валентина вскоре вернется, обязательно, с благородной целью и милосердными побуждениями.
* * *Долго молчали. Потом выпили. Сделали перерыв. Еще выпили. Немного подумали – добавили.
– Эх, что за жизнь? – тоскливо произнес капитан Бронштейн.
– Нормальная жизнь, Лева, нормальная, жизнь как жизнь, чо жаловаться-то, – сказал опер Чуркин.
Николай Чуркин – у Коли хорошая фамилия, русская, знатная. Когда-то Коля ужасно гордился своей фамилией, ведь его родной дед работал в ГУВД, когда управление находилось на Дворцовой площади. В то время на посту находился всего один дежурный, а в дежурной части стояло два телефонных аппарата. Дед рассказывал, бывали такие дежурства, когда за ночь не поступало ни одного звонка. Любимый город спал спокойно, видел отличные сны, будущее видел, и оно было не за горами. А сейчас ничего не видит город, ни снов, ни будущего. Так старый солдат думал вслух, и при этом он расстраивал чувствительного Чуркина. Чтобы не расстраиваться, Коля научился прятаться от разговоров, от людей и сослуживцев. Он нашел себе тихий омут. Чуркин часто пропадал в нем, но одному было тоскливо тонуть. И Коля прихватил с собой капитана Бронштейна, в любом омуте вдвоем веселее. А Лева хотел спрятаться от жены. До получки еще пять дней осталось. Пусть неугомонная Валя побегает по району в поисках любимого мужа. Любовь проверок требует, контроля. На работе проверки замучили. Сейф вытрясли, с ног на голову поставили, все ящики перерыли в поисках просроченных материалов. А в омуте хорошо, тепло, есть выпивка и закуска. На столе сиротливо притулилась бутылка с прозрачной жидкостью, в бумажных тарелочках уютно светятся розовые ломтики докторской колбасы, как китайские фонарики, такие же жгучие и опасные.
– С Валюхой поругался, что ли? – сказал Николай после продолжительного молчания.
В любом омуте хорошо пить и молчать. Молчать и пить. И так до бесконечности. В процессе паузы Чуркин не дремал, не сидел без дела. Николай употребил стопку с прозрачной жидкостью и зажмурился так, будто выпил соляную кислоту, разъедающую внутренности, вытер губы тыльной стороной ладони, съел два розовых ломтика. И все тридцать три удовольствия заел ржаным хлебом, получив тридцать четвертое.
– А чего с ней ругаться-то? – резонно спросил Лева. – Валюха как Валюха. Денег требует. Прямо за глотку берет.
– Все бабы такие, чуть что, сразу денег давай, где хочешь возьми, но дай, – с готовностью подтвердил Николай. – И моя меня за глотку берет. Хватка, как у голодной тигрицы. Двадцатого числа тут тебе и любовь, и поцелуи, и постель, и царский ужин при свечах, и даже «конины» выкатит, ничего не пожалеет. Добрая такая, милосердная. А с десятого и не подойди к ней, рыло воротит. Не нравится мне такая любовь. По двадцатым числам.
И Чуркин осуждающе причмокнул, заодно вытаскивая из треснувшего зуба кусок докторской колбасы, неудачно застрявшей в рваном дупле.