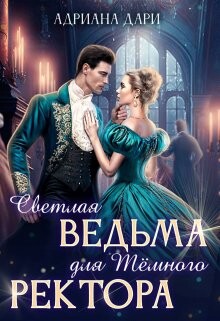Зеленое солнце (СИ) - Светлая Марина
— В Змеевке опять быкуют. Пацан Никоряк в яме обморозился, в больницу в Рудослав пришлось везти. Оказалось, еще и под кайфом. На них менты протокол составляют. Так они теперь на нас валят, будто это я его гнал. Сам понимаешь, чем грозит…
— Ты ж запретил по холодам там лазить, — сдвинул брови Назар.
— Запретил. На том участке камень в полкило найти можно. Прикинь, манит. Твари. Суки! Знают же, что могилу всем сразу роют! — рявкнул Стах и устало потер переносицу. Потом пустым взглядом, совсем не как во время охоты, посмотрел на племянника и спросил: — Справишься? Поговори с его отцом, денег пообещай. На одного свалим — остальные целы останутся. А там я решу, штраф за него выплачу. Продолжат бычиться, бери ребят, знаешь что делать.
— Да знаю я. Сейчас поеду, только Тюдора домой завезу.
— Давай, гони. И сообщай, если что пойдет не так. Если в порядке, то не трогай, хоть отосплюсь.
— Да, дядь Стах, конечно. Ты отдыхай. Завтра за тобой машину во сколько прислать?
— Сам приезжай, но не раньше вечера. Мы с утра еще дичь погоняем с Бажаном. А, Бажан?
— Как водится, — подал голос Бажан, усмехаясь под нос и вытирая руки полотенцем. — Ты б селезней видел по-над рекой. Жирные, как любишь.
— Слыхал? — мрачно хохотнул Станислав Янович. — Без охоты не уеду без крайней надобности. Для остальных ты не знаешь, где я, добро?
— Добро.
На том и порешили. Назар Шамрай уехал, увозя своего кречета со снаряжением. Когда уезжал, видно было — все сделает, что велели. Стах так и сказал после:
— Ну теперь точно выдыхаем. Разберется. Наливай, что ли, я там привез… На бруснике, как ты любишь. В рюкзаке глянешь?
— Да уже, — отмахнулся Бажан. Между ними было принято эдак по-свойски. Он разлил по рюмкам настойку, сунул начальству в руки и указал в кресло. — Ты садись, я сейчас пожрать соображу. Только поленьев подбрось. Толковый Назар у тебя хлопец.
— Толковый. Дурной, но толковый.
— С кречетом у него хорошо получается, даже не думал, что он его в итоге приручит. Настоящий сокольник стал.
— Зря я, что ли, тратился? Как видишь, приручил. Тюдор только его и слушает.
— Он его чувствует. У птицы характер и у парня характер.
— Характер… — Стах помолчал, выпил первую рюмку махом и поставил ее на ручку кресла. Потянулся к дровам, нарубленным племянником. Бросил в топку. Обвел глазами комнатушку. Сколько они тут часов провели — не счесть. Просто здесь, аскетично, без излишеств. А рядом большой коттедж, который на зиму всегда готовят, если хозяину вздумается охотой себя развлечь, но Стах использовал его только по приезду гостей. Сам был не прочь ютиться в домике егеря, который на него уже не первый десяток лет работал и был скорее другом, чем служащим.
— Какая разница, что он приручил кречета, если я приручил его? Что скажу, то и сделает, — спросил он у Бажана. Тот ненадолго отвлекся от тарелок, расставляемых на столе, но вновь вернулся к своему занятию, не прерывая хозяина. — Слыхал, про пулю рассуждал? Когда он со зверьем сцепился, мне один выстрел нужен был, чтобы их всех развести.
— Ранил бы еще парня или птицу его.
— Я бы не промазал. Человек с ружьем имеет больше свободы, чем человек с птицей. Вот когда Назар поймет, то, может, и будет с него толк. А пока пусть бегает, копачей разводит.
— Между прирученностью и привязанностью разница есть все-таки, — зачем-то заметил Бажан. — Парень тебя любит, ты ж видишь.
— Вижу.
Бажан снова усмехнулся. Характер у Стаха своенравный, заносчивый, как у всех Шамраев, и поддается он тяжко, но иногда словом можно в нем что-то там зародить, если слово метко бьет куда следует, там, где оно сильнее всего нужно.
— В понедельник Любця приедет, — подал он голос. — Вы не увидитесь, просила тебе привет от нее передать.
— Она у детей?
— Ага. Внучку проведывать ездила. Такая смешная, ты б поглядел. Ковылять начала, бабой зовет.
— Летом привезешь — погляжу.
— Не-а, уработаешься, как обычно. А уже и тебе пора о себе думать.
— Зачем?
— Как зачем?
— Мне не для кого о себе думать, потому и живу, как живется, — отрезал Стах и прикрыл глаза. Поленья потрескивали. Его явно разморило, можно тепленьким брать, чем Бажан и занялся, раскрыв рот:
— Между прочим, куда хуже могло быть. А у тебя сестра есть, бестолковая, но без тебя пропала б давно. Племянник, который только что в рот тебе заглядывает, как птенец. Хороший парень, и за сына сойдет, не предаст никогда. Будет рядом, плечо подставит, выручит. А захочешь — и семью заведешь, ты ж еще молодой, глядишь — и дети могут свои быть. Столько лет прошло, Стах! Пора уже из головы выбросить! Ну!
Шамрай молчал, отяжелевших век не поднимал. Никак не реагировал ни на слова, ни на движения. До тех пор, пока Бажан не забрал его рюмку с подлокотника и не наполнил ее снова.
— На-ка.
И наткнулся на ледяной блеск глаз. Стах и правда был далек от старческого возраста. И выглядел довольно неплохо, если не считать вековой усталости, спрятавшейся под упавшей на лоб прядью волос. В этом году ему только полтинник стукнул, но он хорошо сохранился. Был сухощав, высок, подвижен. Черты лица — словно высеченные из камня, казались благородными и привлекательными. Черная поросль на щеках делала его моложе. А на контрасте с ней седина модно подстриженных волос вовсе не старила. Он все еще следил за собой. Вот только с каждым годом все сильнее загонял самого себя, словно бы наказывая за то, что жив. В глушь, в болото, в топь. Из всего настоящего, бурлящего только и осталось, что охота и работа. Тут он отдавал себя всего, полностью. Охоте и работе, но не Назару, который за него на что угодно, куда угодно пойдет и не спросит, что там в конце.
Сейчас неживые глаза Шамрая уставились на Бажана, и егерь понимал очень хорошо, почему его вся округа боится, никто не связывается. Но сам он хозяину никогда не уступал.
— У меня есть семья, — сухо проговорил Стах. — У меня есть сын и жена. И незачем мне тулить Назара вместо них. Лянка, лярва малолетняя, его в подоле принесла. Если бы мне батя их не навязал, их бы и не было. Присосались, пусть отрабатывают. А Назар мне не сын. Есть у меня сын. Мертвый, но свой. И чтобы я этого больше не слышал никогда, понял?
Стах отнял у Бажана свою рюмку и влил в себя ее содержимое. Потом поднялся, тряхнул головой и ломанулся из дома. В ночь, под осеннюю лесную морось, где прохладно по-зимнему и свежее, чем в доме, где тепло и пахнет едой. Но егерь слишком хорошо знал — вернется. Остынет там, в ноябрьской мгле, и вернется. И будет говорить о дичи, о ружьях, о прочем дерьме, будто бы ничего не случилось, и будто бы сам Бажан не влез туда, где у его хозяина и спустя столько лет все еще болит.
2
Журнал ожидаемо полетел под ноги.
Острые края глянцевой бумаги хлестанули по голым голеням, он шлепнулся на пол и раскрылся аккурат на странице с ее художеством. Ну, если можно так назвать последнюю фотосессию, опубликованную в модном издании! Один разворот. Никого ню — она в белье, хоть и мало что скрывающем. Да, излишне откровенно, но ей предложили сняться. Отказываться, что ли, было? Должно было проскочить, папа ведь не читает таких журналов.
— Объяснись! — до боли раздражая барабанные перепонки, зазвучал голос отца. Александр Юрьевич едва сдерживался от того, чтобы не отходить ее ничем по тем местам, до которых дотянется, да сам понимал, что поздно уже. И только и мог, что сдавленно выкрикивать, будто бы все еще надеялся, что ему врут его глаза, и его ребенок не мог такого отмочить. — Объяснись сейчас же! Что это такое?!
Оторвавшись от лицезрения собственных ладоней — узких, с тонкими, изящными пальцами и модным маникюром, Милана сначала опустила глаза к журналу, а потом подняла голову, встретившись взглядом с отцом. Она буквально кожей чувствовала негодование, исходившие от него.
Последнее время их общение все чаще сводилось к ссорам и ультиматумам со стороны родителя, которым и была избалована с младых ногтей. Но как откажешь единственной дочери со взглядом самого невинного ангела, взбирающейся на колени и лопочущей «ну папу-у-улечЬка!»? И хоть ангел и вырос, и на колени уже не взбирался, но Милана продолжала успешно прикрывать невинным взором все свои выкрутасы, лишь иногда идя на попятную, останавливаясь у самого края отцовского терпения и даже принимая его условия. А еще она знала о себе две очень важных вещи: она была красивой и она была целеустремленной. Именно результатом этих двух качеств и стала ее фотосессия, возмутившая Александра Юрьевича.