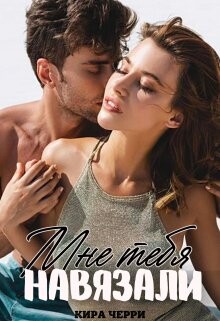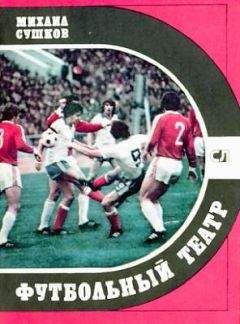После долго и счастливо (ЛП) - Лиезе Хлоя
— Ага, — ик. — Всё ещё слегка пьяная. Прости.
— Главное за руль не садись, и всё будет хорошо.
Я опять икаю.
— Думаю, со мной что-то не так. Я настолько зла на него, что фантазировала, как подложу в его офисные туфли шоколадный пудинг…
— Что? — восклицает она. — С чего бы тебе так делать?
— Он подумает, что это кошачье говно. У Редиски бывает диарея, когда она ест мои комнатные цветы.
Пауза.
— Иногда ты меня реально пугаешь.
— Это правда, — происходя из семьи с семью детьми, я знаю весьма креативные способы отомстить. — У меня определённо шарики за ролики зашли. Я подумываю воскресить свои самые коварные розыгрыши, и я настолько перевозбуждена, что смотрю на его шкаф и нюхаю его запах.
Мэй сочувственно вздыхает в телефоне.
— Всё с тобой нормально. У тебя не было секса уже… сколько там, напомни?
Я хватаю бутылку вина с комода и делаю большой глоток.
— Девять недель. Четыре дня… — я прищуриваюсь, одним глазом глядя на часы. — И двадцать один час.
Она присвистывает.
— Ага. То есть, слишком долго. Ты оголодала без секса. И если ты обижена, это не означает, что ты не можешь по-прежнему хотеть его. Брак — это намного более сложная и запутанная штука, чем нас предупреждали. Ты можешь хотеть оторвать ему яйца и при этом так скучать по нему, что аж дышать невозможно.
На мои глаза наворачиваются слёзы.
— У меня такое чувство, будто я не могу дышать.
— Но ты можешь, — мягко говорит Мэй. — По одному вдоху за раз.
— Почему нас не предупреждают?
— О чём?
— Почему никто не говорит, как сложно будет в браке?
Мэй тяжело вздыхает.
— Потому что в противном случае я не уверена, что мы бы пошли на такое.
Шагнув поближе к вешалке с безупречно выглаженными рубашками Эйдена, я утыкаюсь носом в воротник его любимой рубашки.
«Голубой как зимнее небо, Фрейя. Цвет твоих глаз».
Я чувствую скручивающую смесь ярости и тоски, вдыхая его запах. Океанская вода и мята, тёплый, знакомый запах его тела. Я сжимаю ткань в кулаке, сминая, потом отпускаю и наблюдаю, как она расправляется, будто я к ней и не прикасалась. Именно так я в последнее время чувствую себя в отношении своего мужа. Будто он ходит по нашему дому, а я с таким же успехом могла бы быть призраком. А может, призрак — это он.
Может, мы оба призраки.
Хлопнув ладонью по дверце шкафа и захлопнув её, я снова хватаюсь за бутылку вина. Один последний глоток, и она закончилась. Фрейя: 1. Вино: 0.
— Вот тебе, алкоголь, — говорю я бутылке, с гулким ударом ставя её на комод.
— Он всё ещё в Вашингтоне? — спрашивает Мэй, на цыпочках лавируя в моей пьяной болтовне.
Я смотрю на его пустую сторону кровати.
— Ага.
Мой муж, выполняя мою просьбу, уехал за тысячу миль к северу от меня, зализывая свои раны с моим братом и по праву паникуя, потому что я упёрлась и сказала ему, что такое дерьмо не пройдёт. Я дома, с котами, и тоже паникую, потому что я скучаю по своему мужу, потому что хочу придушить этого самозванца и потребовать вернуть того парня, за которого я вышла замуж.
Я хочу, чтобы синие как океан глаза Эйдена искрили, глядя на меня. Я хочу его долгие крепкие объятия, прямолинейные рассуждения о жизни, прагматизм, рождённый одновременно из трудностей и стойкости. Я хочу, чтобы его высокое тело прижимало меня к кафелю в душевой, чтобы его грубые руки блуждали по моим изгибам. Я хочу его вздохи и стоны, его пошлые словечки в моих ушах, пока он наполняет меня каждым дюймом своей длины.
Отвлёкшись на этот яркий мысленный образ, я ударяюсь большим пальцем ноги о корпус кровати.
— Бл*дские сраные сиськи! — плюхнувшись на матрас, я смотрю в потолок и стараюсь не расплакаться.
— Ты в порядке? — спрашивает Мэй. — Ну типа, я знаю, что ты не в порядке. Но… ты поняла.
— Ударилась пальчиком на ноге, — пищу я.
— Ооо. Отпусти и забудь, Фрей. Отпусти и забуууудь, — распевает она. — В конце концов, ты же Эльза, королева Эренделла, если верить моим детям.
— Но с бёдрами, — в унисон говорим мы.
Я смеюсь сквозь слёзы, которые лихорадочно стираю с лица. Плакать — это не слабость. Я это понимаю. Умом. Но я также знаю, что мир не поощряет слёзы и не считает эмоциональность за проявление силы. Я сильная и прямолинейная женщина, которая проживает все свои чувства и борется с культурным давлением, требующим сдерживать их, привести своё эмоциональное дерьмо в порядок. Даже когда мне хочется лишь разразиться рыданиями, обнимая своих котов со съедобными кличками и сквозь слёзы подпевать своему эмо-плейлисту из 90-х. К примеру. Возможно, этим я и занималась ранее. Когда открыла и начала лакать вино.
В мире, который говорит, что чувства, подобные моим — это «чересчур», пение всегда помогало. В доме, по большей части полном стоиков, которые любили моё большое сердце, но в основном переживали свои чувства совершенно иначе, пение было способом выпустить всё то, что я чувствовала и не могла (или не желала) скрыть. Вот почему на прошлой неделе я испугалась, когда осознала, что перестала петь. Потому что тогда я поняла, насколько я онемела, насколько опасно приблизилась к подавлению своей боли.
— Фрейя? — аккуратно зовёт Мэй.
— Я в порядке, — хрипло говорю я, снова вытирая слёзы. — Или… буду в порядке. Просто мне хотелось бы знать, что делать. Эйден сказал, в чём бы ни была проблема, он хочет её исправить, но как исправить что-то, когда ты даже не знаешь, что сломалось? Или когда всё кажется настолько сломанным, что ты вообще это не узнаешь? Как он может давать такие обещания и вести себя так, будто вообще, бл*дь, не понимает, почему я испытываю эти чувства?
Огурчик, будучи неизменным эмпатом, чувствует моё расстройство и запрыгивает на кровать, громко мяукая, а потом принимается мять мою грудь когтями, и это больно. Я мягко отталкиваю его, после чего он перебирается на мой живот, и это уже приятнее. У меня капец какие сильные спазмы. Редиска более медлительна, но наконец запрыгивает и присоединяется к своему брату, после чего начинает лизать моё лицо.
— Не знаю, Фрей, — говорит Мэй. — Но я знаю одно — тебе надо с ним поговорить. Я понимаю, почему тебе больно, и почему тебе меньше всего хочется проявлять инициативу, когда он так отстранился, но ты не получишь ответов, если не будешь разговаривать, — она выжидает мгновение, затем говорит: — Возможно, визит к семейному психологу будет мудрым решением. Если ты готова… если ты сделаешь такой выбор. Тебе надо решить, хочешь ли ты этого, даже если тебе кажется, что всё зашло слишком далеко.
И вот тут накатывают слёзы, как бы быстро я ни стирала их со щёк. Потому что я не знаю, остались ли у меня варианты для выбора. Я боюсь, что мы уже слишком сильно отстранились. Я плачу так сильно, что болит горло, и каждое надрывное рыдание будто разламывает мою грудь на куски.
Потому что последние шесть месяцев я смотрела, как само сердце моего брака рассыпается, и теперь я не знаю, как выстроить всё обратно. Потому что в какой-то момент критический урон уже нанесён, и не вернуться к тому, что было прежде. В человеческом теле это называется «необратимая атрофия». Будучи физиотерапевтом, я с таким знакома, хотя борюсь с этим в меру своих возможностей, работаю с пациентами, пока они не начинают потеть, плакать и материть меня.
Это не самая любимая часть моей работы — когда они достигают дна, дрожащие, вымотанные и измождённые, но правда в том, что это хорошая боль, которая предшествует исцелению. В противном случае мышцы скукожатся без нагрузки, кости без испытаний сделаются хрупкими. Используй или потеряешь. Есть тысяча вариаций третьего закона Ньютона: Действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Чем меньше ты требуешь от чего-либо, тем меньше оно даёт, тем слабее становится, пока однажды не превратится в тень прежнего себя.
— Я так устала плакать, — говорю я Мэй сквозь ком в горле.
— Я знаю, Фрей, — тихо говорит она.