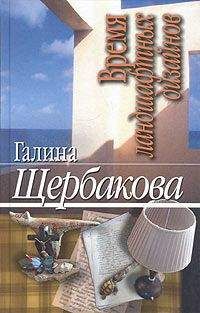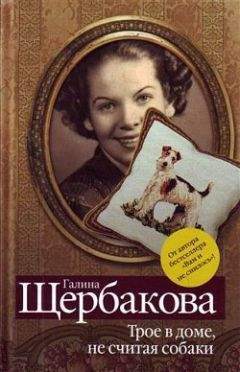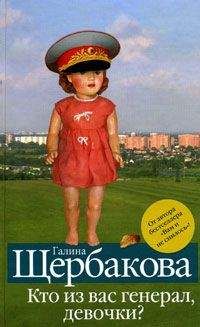Галина Щербакова - Отвращение
Не будь Берты, все давно бы кончилось. Как говаривал один хирург-остроумец с Украины, «и вси поминальни пырожкы покакалы бы». Но она вызвала специалистов-немцев, те долго колдовали над несчастной Рахилью, говорили непонятные немецкие слова, ничего не обещали, но присылали какие-то новые лекарства, и случилось чудо чудесное: Рахиль открыла глаза и узнала всех сразу. Правда, никто не знал, что она помнила, что вчера (а прошло три месяца) она видела ужасающую статью про себя, и ей тут же захотелось вернуться в блаженное незнание, но все были настороже, и фокус с возвращением назад у нее не получился. А через какое-то время муж увез ее домой. Берта навзрыд плакала в купе, подворачивая под ноги Рахили одеяло.
– Успокойся, Боженка, – отвечала Рахиль. – В конце концов, я жива.
– В конце концов, ты обязательно приедешь в Мюнхен, тараторила Берта. – И ты будешь нам читать свои замечательные лекции.
– Traurin bin, – прошептала Рахиль.
Она не знала, что Берта чувствовала себя виноватой во всей этой истории. Это она растрезвонила среди филологов-славистов, какая замечательная филологиня Бесчастных. Будто она не знала русских! Пять лет ведь училась среди них. Набиралась ума и исследовала характер этого народа, богато-нищего одновременно, щедро-завистливого и изысканно-жестокого. Только русский мог завернуть розы в подлый пасквиль и положить на грудь тяжело больной женщине. Берта знала, что это была блондинка в косыночке, умолившая глупую девчонку сделать пакость своими руками. Берта узнала подлинную фамилию автора статьи – некрасивая брюнетка из Волгограда, Дита Синицына. Она позвонила в Волгоград и узнала, что Дита ставила памятник на могилу матери в дни комы Рахили. Россия огромна. Могла быть и другая завистница, и третья. Значит, самое важное – не искать злодейку, а спасти Рахиль, оставить ее жить. Боже, справится ли с этим ее муж? Он такой слабый с виду мужчина. Берта дала себе слово отслеживать все чеховские защиты в Москве и Петербурге. Она догадалась: одна из диссертаций будет та, что будет сворована у Рахили. Только бы уследить, только бы не пропустить. Хотя как уследить за просторами России? Диссертант может всплыть где-нибудь в Красноярске или Томске. Ну и как она найдет? Но почему-то думалось: замысел был московский. Очень соблазнительно было кому-то въехать в столицу на Чехове Рахили. Как же она подвела кого-то, оставшись жить! Очень хорош был бы слух о смерти Рахили или хотя бы о полной ее невменяемости. Подталкивая одеяло под ноги Рахили, Берта наметила, кому и что надо сказать, кого предупредить, кого осторожить.
– Боженка ты моя! – обнимала ее Рахиль. После болезни она будто забыла, что та – Берта. Берта с именем. Берта с положением. Она обнимала полячку, едва связывавшую когда-то скользкие русские слова. Но древнее библейское имя молодой преподавательницы русской литературы всегда говорилось легко и правильно. «Боженка моя!» – отвечала Рахиль.
* * *Рахиль выздоравливала частями. Первой заработала рука. Однажды она взяла ручку и написала строчки:
Да не сокрушится дух мой прежде тела.
Господи! Тебе ведь все равно,
Сделай так, чтоб птицей отлетела,
А не завалилась, как бревно.
Она забыла напрочь, чьи слова писала рука, но пальцы держали ручку грамотно, крепко. Вечером она сумела сама налить себе заварку. Через какое-то время на виске завихрился подраставший волос. Правда, он был почему-то совсем седой, но поворот его, даже некая лихость были прежними, почти как в молодости. И волосы, будто услышав зов вожака, забуянили, завернулись в колечки, глядишь – и шапочка нарядила голову, ну и что, что седая! Теперь это называется платиной.
Рахиль потихоньку узнавала себя. Совсем забыла, какая у нее ямочка на подбородке, провела рукой – своя, родная, ни у кого такой: левая половинка подбородка чуть меньше правой. Но вот к письменному столу она не подходила. Те строчки, что она написала на вырванном листке телефонной книжки, были написаны стоя, на кухне. Главный же стол, рабочий, пугал и отталкивал. На нем всегда стояли цветы и фотографии, лежали камушки Коктебеля, железно-задумчиво сидела на пне сто лет живущая в доме печальная черная лиса. В ней было столько скорби, будто она просила прощения за всех лживых и коварных вертихвосток своего племени. Когда-то из-за этой железной лиски Рахиль отказалась от горжетки, которую ей хотела подарить тетка. У лисы-горжетки была хищная морда, и стеклянные глазки смотрели с такой лютой ненавистью, что возникал вопрос о посмертной жизни мехов и чучел, о странной профессии чучельника и скорняка: кто они в системе передачи информации в мире? Отказавшись от горжетки, Рахиль была отторгнута от дома тетки, а она, садясь работать, клала себе на колени лиску, чтоб забыть ту страшную меховую морду.
От Боженки регулярно приходили письма. Были они нежные, теплые, она просила Рахиль не торопиться с работой, а окрепнуть как следует.
«Разве я тороплюсь?» – спрашивала себя Рахиль. – И что она имеет в виду под работой? Я ведь уже варю суп и вытираю пыль. Вчера я сама влезла руками в рукава пальто. Очень странное ощущение отяжеления. Где это я слышала? «Стали руки мои, как ноги…»
Она тогда испытала ужас от желания как бы встать на четвереньки. «Господи! Тебе же все равно. Сделай так, чтоб птицей отлетела…» Это Елена Благинина, – вспомнилось. Собралась с духом. Ничего не случалось, все в порядке: просто я первый раз надела пальто. Оно у меня из старого тяжелого драпа, да еще и на подстежке.
Ее навещали подруги с кафедры, соседки. Они рассказывали ей о злых чеченах, которые все захватили на рынках, о каких-то маньяках, которые бьют негров, о девочках, которые небрежно шагают с крыш домов. Из всего этого ее интересовали только девочки. Она долго после этого плакала, и муж – она этого не знала – ввел в беседы посетителей цензуру. Разговоры пошли клубничные, золотисто-шелковые, но все почему-то быстро уходили.
Однажды она проснулась со словом «хватит». Слово было небольшое, из шести букв, она их посчитала, потому что каждая буква уверенно сидела на ней и требовательно на нее смотрела. Самая большая хватка была у буквы «х». Она просто держала ее за горло, не давила, но держала, сцепившись концами.
– Поняла! – сказала Рахиль, и буквы ссыпались с нее с легким таким бумажным треском. – Я все помню. Нечего меня побуждать к действию. Просто я хотела понять причину. Хотела, но не поняла, значит, так тому и быть…
В этот день она взяла том писем Чехова и стала читать навскидку.
«Хорош белый свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм!.. Вместо знаний – нахальство и самомнение паче меры, вместо труда – лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундира»… Нет, она не этого сейчас хотела от Чехова. Сейчас она поищет. Но глаза смотрели именно в эти строчки, тысячу раз ею читанные и выписанные несчитово. Это ведь было дело ее жизни, как здесь черным по белому: «Работать надо, а все остальное к черту».