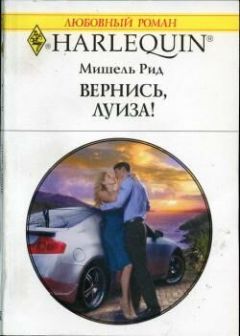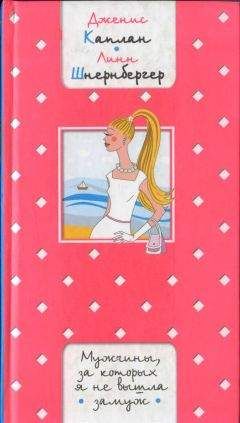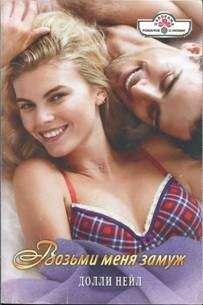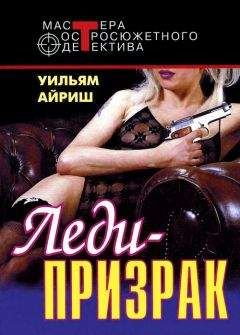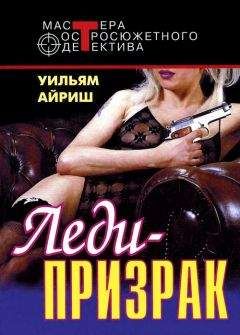Людмила Белякова - Быть единственной
Машина с нарядом пришла после нескольких настойчивых напоминаний и только к вечеру. Менты, тоже не больно тверезые, с некоторым недоумением обнаружили, что покойного уже обмыли, переодели в выходной костюм с галстуком и, по временному отсутствию гробика, уложили на столе в чисто вымытой горнице. Подивившись такой оперативности, менты увезли назюзюкавшегося вдрабадан убийцу сначала в вытрезвитель, а оттуда – в кутузку. Через полгода, как-то с ленцой, неохотно, папу судили за превышение необходимой обороны и дали три года колонии-поселения – тоже, считай, натурально «выселки». Не велика разница, если подумать, говорили соседи, только бабенку молодую жалко.
Кого и в каком положении застанет дома арестант, когда вернется, – об этом оставалось только гадать. Бабы на словах сочувствовали вдове, оставшейся с ребенком и без единого мужа, но в душе ликовали – а и поделом ей! У некоторых ни одного мужика, а тут на тебе, губы раскатала, два хрена на выбор. Вот и достукалась!
– … Да и мне эти наши Выселки сильно не в жилу, – будто сам себе пробормотал Володя, отставляя пустую тарелку. – За квартиру куда податься работать, что ли?
– Ох, и ты мать бросить хочешь? И ты бросить хочешь? Мать – бросить!..
Маша неловко заковыляла по кухне туда-сюда, схватив себя за щеку.
– Жить отдельно – не значит бросить, – досадливо буркнул Володя, вставая из-за стола.
– Да как же это – мать бросить?! – продолжала стенать Маша.
– А если с тобой в одном доме жизни нет?
Никогда Маша не видела у сыновей таких глаз – жестких, холодных и беспощадных. Такие были у ее матери, когда она выговаривала Маше-подростку за развратный интерес к парням.
– Как это – «жизни нет»? Чем тут вам не жизнь? – остановила Маша свой марафон.
– Да что это за жизнь – крик да скандалы, скандалы да крик?
– Ну так, сынок, – с огромным трудом сбавив громкость, вкрадчиво произнесла Маша, – это ж, ты понимаешь, по-женски у меня, возрастное. Нервное… Все бабы нервные в таком возрасте. Я же за вас переживаю!
Володя брезгливо поморщился:
– Мы когда еще тебе говорили – таблетки пей. А жить с тобой невозможно – факт! Я вот с работы пришел – а отдохнуть я смогу? Ты сама подумай?
– Дорогие они, эти таблетки, сынок…
– Мы хорошо зарабатываем – на все хватит. И не ори больше, поняла? А то и я уйду.
И сын действительно ушел – правда, пока только к себе.
«Вот-вот, я знала – этим и кончится, бросят мать, пойдут по девкам-сыкухам! Правильно мама говорила: все девки – сыкухи! Так и смотрят, чтоб мужика к рукам прибрать… И крик тут мой ни при чем… Все эти девки! Сколько же их вокруг, и каждой мужика подавай!»
За вечер Маша выпила почти половину своих успокоительных лекарств, которые медленно, но верно тяжкой, свинцовой плитой придавили ее душевную боль, оставив глухое недовольство. И сыновьями, и собой.
Может, в какой-то степени права ее образованная тетка: хорошие отношения с детьми можно сохранить, только если не вмешиваться в их дела? Ну что, что поделаешь на самом деле, если ребятам молодым возьми да положь в постель бабу? Что, в самом деле, Маша станет говорить, когда кто-то из соседей спросит, ехидно прищурив глаза: «А чёй-то, Степановна, сынки твои до сих пор неженатые, а? Уж и отслужили, и отучились. Или по мужской части у них того – непорядок? Или они баб, того хуже, не больно обожают?» Вот что б она стала говорить? Отматерила любопытного за милую душу? Да, и признала бы таким образом, что не в порядке ее сыновья. По ее, Машиной, вине. А как же иначе? Она же их растила-воспитывала – не кто-нибудь…
Маша, укладываясь спать, долго ворочалась, как-то особенно ощущая неподъемность своего грузного тела. Мысли, тоже тяжкие, неприятные и неподъемные, никак не поддавались уложению: как вот повернуть так, чтобы сыновья были при ней, а не при девках? Или девки были бы где-то далеко, где их Маша не замечает и не ревнует к своим красивым, большим сыночкам… Вот ведь незадача какая…
Ничего путного не придумав, Маша забылась сном. Наутро, хоть и не выспалась и встала с тяжко гудящей головой, была особенно ласкова со старшим сыном, завернула ему с собой три пирожка и проводила чуть ли не до калитки. Володя ее, к счастью, ни в чем не упрекал, но отвечал бесцветно и односложно. О Вадике они не говорили – будто он просто еще не встал или уже ушел.
«Как бы это половчее подгадать – прийти к обеду… У него время будет поговорить. А то отговорится, что работы много, и слушать меня не станет», – размышляла Маша, собираясь в город.
Хотя главным было не это – не заголосить бы при нем от отчаяния, не отпугнуть сына еще больше, пообещать ему…
«А что пообещать? Что буду его зазноб в дом пускать? Нет… Умру – не буду! Или все-таки придется?»
За ночь Маша будто бы слегка поостыла, хоть самую капельку притерпелась к мысли, что младшенький ушел из дому. Но вместо какого-то хитроумного решения – как бы расставить все и всех так, чтобы ее это устраивало, – в душу ввалилась черным языком вязкого древесного вара горькая обреченность… Ничего тут не поделаешь – сыновья выросли, все равно будут встречаться с девчонками и рано или поздно женятся. Да, но пока – пока! – ведь никто ничего определенного не говорит? Нет. Настьку эту проклятущую Маша отвадила. И сейчас главное – вернуть домой Вадика. Сегодня Маша его увидит, завтра вообще на сутки на заводе – вот и уговорит. Уговорит! Он к тому времени соскучится про домашнему уюту и вернется. Вернется обязательно! По глупости ведь ушел, не со зла же… Мало ли кто из дому сбегает? За мальчишками это водится, еще как! Ничего страшного.
Маша, вспомнив, как не смогла поехать за мужем на Украину, ободрилась: недалеко же, не на Луну сын улетел? Туточки он, близко.
Машино настроение дополнило то, что на улице просветлело, – очистилось от свинцовых клеклых туч небо, выпал первый, чистый снежок. Он прикрыл глинистое безобразие тонкой белой простынкой, и Маша, глубоко вдыхая морозный воздух, заспешила к остановке. Как на свидание… Хотя на свидания она, считай, толком-то никогда и не ходила. Она к сыночку едет.
К заводской проходной Маша подошла без чего-то двенадцать – вот-вот из проходной в столовку на противоположной стороне улицы пойдут бездельники-писаки из конторы, а потом, через полчаса, потянутся и работяги.
– А чегой-то ты, Степановна, сегодня? – удивилась женщина, которую Маша должна была сменить завтра в девять утра. – Времени своего не знаешь? Попутала?
Маша хотела было огрызнуться, но, облегченно сообразив, что, вероятно, никто на работе еще не знает о ее материнском позоре, просто буркнула: к сыну пришла.
– А, ну-ну, – равнодушно отозвалась сменщица. – Вот он, кажись, идет.