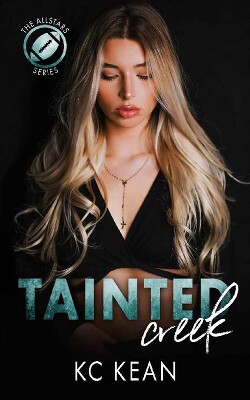Николайо Андретти (ЛП) - Хантингтон Паркер С.
А еще меня раздражает моя ситуация. Социальная служба вообще не должна была влезать сюда; мой донор спермы не должен был уходить; донор спермы Мины, кем бы он ни был, не должен был уходить; и никчемная женщина, которая нас родила, тоже не должна была уходить.
И в некоторые дни мне кажется, что я отношусь к категории людей, которые ушли.
В конце концов, мы с Миной не вместе, и это значит, что я ее бросила.
Даже если это не по моей воле.
И наконец, сейчас я разочарована в себе. Вот я стою на ступеньках соседского дома Джона и жду его реакции на мои слова. От того, что он скажет, может зависеть мое будущее, может зависеть будущее Мины.
И все же я не могу не заметить несимпатичное выражение его темно-карих глаз и чувствую себя обессиленной.
Он просто прекрасен.
Он как драгоценная статуя в музее. На которую можно смотреть издалека, но нельзя прикасаться или даже приближаться. И это не потому, что он хрупкий. А потому, что он, во всей своей эстетически совершенной, каменной славе, стоит больше, чем вы можете даже представить себе, не говоря уже о том, чтобы мечтать о том, чтобы сделать это в течение своей жизни.
Так что мне повезло, что я успела произнести эти слова еще до того, как он полностью открыл дверь. Потому что один взгляд на него, одетого только в треники, глубокие впадины его мускулистой груди, обнаженные для моего обозрения, — и я ошеломленно молчу.
Мой мозг решает заменить эту тишину воспоминаниями о его губах, прижавшихся к моей челюсти, его теле, прижатом к моему, и его сбивчивых словах, прошептанных мне на ухо. Я пытаюсь вытеснить воспоминания из головы и сосредоточиться.
Я вдруг чувствую себя уязвимой, ожидая его реакции.
Скажет мне уйти или попросит остаться.
И я не знаю, какой ответ предпочесть.
После минуты застывшего молчания сосед Джона хмурится, нависая над дверным проемом, как непоколебимая глыба, впитывая мои слова. Я бесстрастно наблюдаю, как темнеют его холодные карие глаза и как слегка опускаются обе брови.
То ли от неверия, то ли от растерянности, то ли от шока, я не знаю.
Он как всегда неразборчив. Его выражение лица меняется и двигается, он реагирует на слова и вещи, как обычный человек, но, в отличие от обычного человека, я не могу его прочитать.
Я не знаю, о чем он думает, когда его полные губы складываются в прямую линию.
Я не знаю, о чем он думает, когда проводит большой рукой по своим густым каштановым волосам.
Я не знаю, о чем он думает, когда вздыхает.
И вся эта неопределенность заставляет меня нервничать.
Она заставляет меня сомневаться в моем безумном плане, который я и так уже достаточно угадала.
Я стараюсь лучше изобразить действие, потому что мне нужно быть на высоте, если я собираюсь обмануть этого парня. Он неописуем, с чем я никогда не сталкивалась, и в этот момент он больше всего напоминает мне хранилище.
А хранилище нельзя обмануть, чтобы оно дало тебе свой пароль.
Нельзя обмануть хранилище, чтобы оно позволило тебе остаться в его доме.
— Это твоя вина, — добавляю я, нахмурив брови в раздражении, явно намекая на ту ночь на прошлой неделе.
— Зачем им следить за тобой? — наконец, спрашивает он, и я ненавижу его способность стоять так спокойно посреди своего собственного молчания и моих инсинуаций и обвинений.
— Я не знаю. Я даже не знаю, кто они такие. Но что я точно знаю, так это то, что неделю назад за мной никто не следил. Но кому-то понадобилось выследить меня у дома Джона, в меня стреляли, а теперь за мной следит крупный, неряшливый мужчина. — Я скрещиваю руки. — Звучит знакомо?
Он изучает меня с минуту.
— Это похоже на твою проблему. Что ты хочешь, чтобы я с этим сделал?
Мой мозг словно взрывается от его наглости.
— Серьезно?! Это все, что ты хочешь мне сказать? — И тогда я достаю свой главный козырь и пускаю в ход все свои навыки лжи, чтобы продать этот блеф. — Знаешь что? Не бери в голову. Забудь, что я тебе это говорила. — Я разворачиваюсь и уже на полпути спускаюсь по ступенькам, когда тихо, но достаточно громко, чтобы он услышал, бормочу: — Я просто обращусь за помощью к копам.
Проходит несколько секунд, и мои ноги уже ступают на тротуар, когда он говорит:
— Подожди. — Его голос холоден, как будто я причиняю ему неудобства одним своим существованием.
Я преувеличенно вздыхаю и снова скрещиваю руки, прежде чем повернуться к нему лицом.
— Что теперь? — спрашиваю я, мой голос представляет собой идеальный коктейль из отношения и раздражения.
— Опиши его.
Не задумываясь, я придумываю вымышленное описание, описывая более молодую версию парня, который пытался изнасиловать меня несколько месяцев назад.
— Высокий. Сильно сложен. Глаза широко расставлены. Светлые волосы. Голубые глаза. Нос, как у сокола. Может быть, лет тридцать?
Он кивает головой, как бы призывая меня продолжать.
Я продолжаю, черпая идеи из фильмов, которые я смотрела на факультативном курсе "Введение в развлекательное право" в прошлом году.
— У него была шляпа, низко надвинутая на глаза. Когда я увидела его во второй раз, это была толстовка с капюшоном. Черная. После этого он продолжал носить капюшон. Или, может быть, он менял толстовки, и все они были черными. — Я пожимаю плечами, как будто это все, что я знаю, и мне жаль, если этого недостаточно.
Но в голове я ликую и мысленно присуждаю себе "Оскар". Потому что, вау, это было достойное выступление.
Он скрещивает руки, толстые мышцы его бицепсов вздуваются, а мышцы живота пульсируют от этого движения, и оба они обнажены, чтобы я могла видеть, что рубашка не мешает.
— Сколько раз ты его видела? — Его голос звучит по-деловому, но я воспринимаю это как должное.
Как подтверждение того, что он мне верит.
Я подражаю тону его голоса, когда говорю, надеясь, что это заставит его воспринять мою ложь всерьез.
— Я видела его пять раз. Два раза в один и тот же день, но, за исключением толстовки, оба раза он был одет в разные вещи. Возможно, он следил за мной чаще, но я не знаю. Вот сколько раз я его видела.
— И что ты делала, когда видела его?
— В первый раз я немного испугалась, но постаралась сделать вид, что не заметила его. В другие разы у меня это получалось лучше.
Он одобрительно кивает, а я обдумываю, что сказать. Мне следует снова обратиться в полицию, потому что, как я подозреваю, ему не понравится, что они вмешиваются в его дела, учитывая всю эту историю с мафией.
Я понижаю голос, чтобы он был едва выше шепота:
— Ну… Первые несколько раз я думала о том, чтобы пойти в полицию и написать заявление. — Я понимаю его мрачное выражение лица и тревожно говорю: — Но я этого не сделала. Они наверняка решат, что я сошла с ума. У меня нет доказательств того, что за мной следили. Я должна была сделать фото. — Я добавляю в свой голос нотку уязвимости. — Но я была так напугана.
Я специально делаю паузу, давая ему время обдумать варианты, прежде чем закончить:
— Может быть, если ты пойдешь со мной и расскажешь полиции, что произошло здесь неделю назад, они мне поверят. Вообще-то, как тебя зовут? Я могу просто написать заявление о той ночи, и они приедут сюда. Тебе даже не придется выходить из дома. Обещаю. — К концу фразы я убедительно умоляю.
Это самый большой блеф, который я когда-либо совершала. Я не могу пойти в полицию. Я не могу вмешивать их в свою жизнь, когда хочу оформить опекунство над Миной. Но… он этого не знает. Поэтому я держу лицо прямым, а ложь — убедительной.
В его неразборчивой маске лица появляется небольшая трещина, и он вздыхает.
— Нам стоит поговорить об этом в доме.
Играя на своем нежелании, я не двигаюсь с места.
Когда он добавляет:
— На всякий случай, если этот парень последовал за тобой сюда, — я все равно не сдвигаюсь с места.
Я хочу, чтобы ему пришлось потрудиться ради этого. Тогда, когда он в конце концов предложит мне переехать, он будет думать, что все это его идея — с того момента, как ему пришлось убеждать меня войти в его дом, и до того момента, когда ему придется убеждать меня остаться.