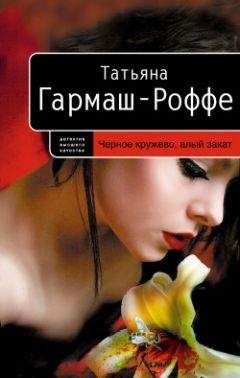Помощница (СИ) - Февраль Алена
— Что возместишь? — наконец вытряхивая я из себя.
— Что пожелаешь. Я ведь понимаю, что поступил с тобой как кобель. Набросился как животное и тебе из жалости пришлось согласиться. Ещё и боли столько принёс. Я и раньше был так себе в постели, а тут ещё и сорвался…
— Хватит! — дрожащим голосом, говорю я, так как больше не в силах слушать всё это, — мне ничего не нужно, Алекс. Я… я никогда бы…
Голос срывается окончательно и я еле слышно продолжаю.
— … ты во всём сейчас не прав……. Я… я пойду в ванную комнату… в другую. В ту, что рядом с кухней… мне надо.
Я соскакиваю с машинки и на всех парусах мчусь в сторону кухни. В груди сильно печет, а тело сотрясает мелкая дрожь.
Совсем другие слова я хотела услышать от Алекса. Но мои желания чаще остаются фантазиями. А реальность, она другая, Варвара. Пойми ты уже это.
28
Алекс
Таким ублюдком я себя очень давно не ощущал. Столько времени ходил по краю пропасти и всё-таки сорвался. Сжёг остатки почвы под ногами и с диким остервенением бросился в пучину её голубых как небо глаз. Эти глаза словно отражение небес — таких же недоступных и таких же желанных…
Я в последний раз смотрел в небеса, с таким придыханием и восторгом, только в далеком детстве. В счастливом, теплом, безоблачно-небесном детстве. Помню шел с мамой в парк, а на небе ни облачка и солнце такое же яркое, как её пшенично-золотые волосы.
Мама…
Бывали времена, когда я шептал это слово столько сотен раз подряд, что у меня даже губы полопались, а язык буквально припечатался к нёбу… Я же всё повторял и повторял. Казалось, что стоит мне сказать ещё один раз и она вернется — выдерет гвозди из гроба, в который её так быстро упрятали от меня, а потом землю руками раскопает и выберется из могилы. Ведь не может она оставить меня одного. Просто не может. У меня кроме нее и крохотной болонки Лизы никогда никого не было.
Я уже тогда, в шесть лет, понял, что омерзительнее и гнуснее слова «рак» ничего нет. Он забрал её за полгода. Пришел… наследил ногами на её нежной коже и утащил за собой в холодную сырую могилу.
С тех пор я не смотрел в небеса. Никогда. Но небо само вернулось в мою жизнь. Вернулось и вся моя прежняя жизнь развернулась на сто восемьдесят градусов. Её глаза… они возвращали мне веру в чудо… в прекрасное будущее! А этого не должно было случиться.
Реальная жизнь никакая на хер не сказка. Она даже не повесть или роман… Вся она сплошная блядская трагедия, где черная полоса всегда преобладает, а белая появляется крайне редко и только для того, чтобы я успокоился и не ждал беды. Ведь только мне начинает казаться, что я наконец выплываю, меня обязательно потопят, а ещё непременно уебут башкой об дно. Чтоб знал своё место.
После быстрых маминых похорон меня привезли в дом её брата. Даже сейчас помню, как дядя Петя посадил меня — шестилетнего пацана — за стол, а сам начал высчитывать на бумажке сколько ему будут платить, если он оформит надо мной опеку. Он считал, а я повторял и повторял слово «мама». Не плакал, ни бился в истерике, а просто шептал свою молитву.
Видимо дядьке не понравились его вычеты и уже на утро я был в своеобразном распределительном Центре. Это не детский дом, а чертова перевалочная база, где таких как я было два этажа. Хотя не таких как я, но всё это стало ясно ближе к ночи.
После отбоя компания маргинальных подростков избила меня в туалете, только из-за того, что на мне была чистая одежда и все шесть лет жизни, я не бегал от упитых в хлам родителей, а жил в уютной квартире с любимой мамочкой.
Воспитателям было особо не до нас, даже заметив мои синяки и ссадины, они лишь сухо проговорили: больше бить не будут, ты ж сопляк ещё, поэтому радуйся. И всё на этом!
И я, сука, «радовался». Выл каждую ночь от "счастья", потому что готов был вены себе выгрызть от тоски по маме, а ещё по её заботе, любви, ласке. Именно тогда я люто возненавидел все эти чувства. Кому они нужны, если они твоё сердце на части разрывают. Делают тебя чокнутым слабаком, готовым на всё ради любимого человека.
А потом были десять лет ада под казенной крышей детского дома. Первые три года я без синяков не ходил, а на четвертый, я заточил камень, который нашел на прогулке и выбил глаз главному своему обидчику.
Я до сих пор помню то, что началось потом. Психушка стала моим туманным пристанищем на год. Зато когда я вернулся, никто и никогда ко мне больше не подошёл. Шепоток «псих» я слышал постоянно, но дальше слов ничего не заходило.
Из-за такой изоляции, я всё чаще проводил время за компьютером, поэтому к концу девятого класса, я уже побеждал на городских олимпиадах по информатике. Всегда один или в обнимку с компом, я старался не обращать внимания на все то дерьмо, что творилось вокруг.
Но если воспитанники ко мне больше не лезли, то воспитатели меня конкретно долбили. Не знаю, чем я этим молодым гадинам не угодил, но они старались любым способом задеть или ущемить меня. А в одиннадцатом классе, одна из них и вовсе зашла за мной в мужской туалет и предложила провести время у нее дома. Я вначале не понял — думал, что она как и все другие педагоги, приглашает меня на выходные, чтобы я хоть на два дня почувствовал себя частью семьи, но нет… Оказывается эта озабоченная просто трахаться захотела и непременно со мной.
Отшил я тогда её довольно жёстко, из-за чего она ещё больше обозлилась и мне приходилось еще и приставания её терпеть. Если бы не наш новый физрук Никита, она бы точно аттестат мне попортила своими кознями и подставами. Но молодой парень — сразу после института — как то застал нашу перепалку и сдал эту суку директрисе. А та, на удивление, тут же её уволила. Я тогда вздохнул с облегчением, а с Никитой, после этого случая, мы сильно сблизились. До сих пор он мой единственный и верный друг.
Разделилаэту тяжёлую главу на 2 части. Слишком эмоционально тяжело мне писать от лица Алекса.
29
Алекс
Именно Никита познакомил меня с Ольгой.
До окончания института я был не просто равнодушен к женщинам, они скорее вызывали во мне некое отвращение. Я до сих пор не переношу надоедливых баб, а тогда их бесконечные приставания вызвали во мне рвотные позывы. Может сказался негативный опыт прилипалы-воспитательницы, но долгое время я вообще сторонился девушек. А они чувствовали моё равнодушие и ещё с большим рвением не давали мне жизни.
Однажды, одна из моих самых ярых поклонниц — Ангелина, которую я неоднократно посылал, из-за её бесконечных попыток прихватить меня за член через брюки, пустила по универу слух, что я гомосексуалист и до женщин мне нет никакого дела. Наверное она думала, что я тут же начну доказывать обратное, но мне на эти слухи было просто похер. Они не знали из какого ада я вылез и все эти разговоры не шли не в какое сравнение с тем враждебным игнором, который я пережил в детском доме.
Правда одному, слишком пиздливому говнюку, пришлось врезать, да так сильно, что ему потом челюсть по частям собирали. Этот мудак чуть в штаны не наложил, когда увидел какого зверя во мне разбудил. Он и заяву писать не стал, потому что я его сразу предупредил, что я псих и никто меня посадить не сможет. Врал конечно, но видимо один мой вид, убедил его даже больше, чем простые слова.
После окончания универа, я встретил эту Гелю на стажировке в фирме, куда взяли сразу пять моих одногруппников. Она опять стелилась передо мной тряпочкой, а я, напившись в хлам на новогоднем корпоративе, отымел её в рот в туалете ночного клуба.
Я смутно помнил этот свой первый раз, но кое-что запечатлелось в моем хмельном сознании — не трахать, не целовать или ласкать я ее не хотел. Она сама опустилась передо мной на колени, прямо на грязный туалетный пол, и сняла с меня штаны. Потом, ещё пару раз и не бесплатно, она повторяла тоже самое, только уже в подсобке офиса, но я даже особого удовольствия от этих актов не испытывал. Я от работы больше кайфа ловил, чем от прикосновения пухлых губ Гели.