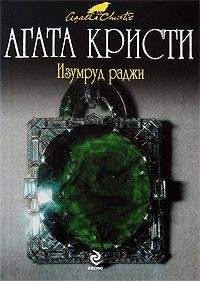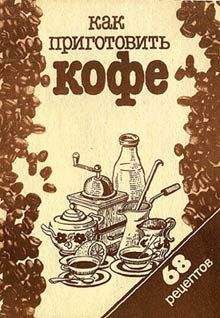В глубине тебя (СИ) - Ренцен Фло
В глазах мельтешат и дергаются лампочки на опустевших игровых автоматах. Мужик ушел с блондинкой, а может, они просто одновременно вышли на воздух, а там разошлись в разные стороны.
В ушах шумит и уже не так отчетливо слышится Хорст. А он бубнит себе под нос, переливает из пустого в порожнее:
— И ведь не сдал его Вальтер... наверно, думал, за нанесение телесных повреждений в тяжелой форме его из «школы» той могут исключить... окажется, зря он тогда его учил... бабки в него вкладывал... ну, или что там...
Только вряд ли, думаю, Рик оценил заботу, которую проявил по нему люто ненавидимый отчим.
— Ему тогда как раз «за двадцать» стукнуло... по взрослой статье пошел бы... а-а, вспомнил... Это ж Вальтер тогда с Ингой... это ж они тогда поругались, потому что он... парень... день рожденья свой с ними отмечать не приехал. Инга... Вальтер незадолго до того лупцевал ее по пьяне, Рик тоже там оказался, полез защищать и отгреб сильно, вся морда — в «радуге»... но он не уехал, как обычно, весь в кровище перемазанный, а сам пристал к ней и давай за руки тащить: поехали, мама, отсюда, я тебя заберу. Ну, она — ни в какую, мол я его, сынок, спровоцировала. Он поорал-поорал да так сам, без нее и свалил. Не впервой такое у них было. Сказал, мол — все, будь он проклят, больше не приеду. Ни-ког-да. Но матери звонил все равно. А в день рожденья его Инга Вальтеру возьми да брякни... мол, сына из-за тебя не вижу... уйду от тебя, мол...
Не успела уйти, а может, никогда не ушла бы. А может, просто не повезло, что Рика не было рядом. А может, повезло, что не было. Ему.
Не знаю, почему мне сейчас так плохо. Их давно нет. Все, что он говорил мне о матери, то немногое, что мне о ней говорил... ничего не говорил — ставь это в прошедшее время. Ее давно нет. Его давно нет. Ее не стало в день его рожденья. И его не стало.
Его нет. Десять... или одиннадцать лет уже прошло, а такие пацаны — горячие, озлобленные, обездоленные, рано познавшие пьяное насилие, ужас смерти и горечь утраты — они не живут долго. Они уходят из жизни и в лучшем случае перерождаются. Его больше нет. И нас с ним нет больше. Почему же мне тогда так плохо?..
Дождь. Назавтра будет наводнение и всех нас смоет. Сейчас просто льет дождь.
Выхожу на Котти и меня с плачем встречают фонари. Мне кажется, это пьяные слезы. Пьяные, как у меня, пьяные, как у старика. Мне кажется, они источают сладко-горькое зловоние испитых побоев и семейных драм. Мне кажется, что свет их режет и печет, как кровоточащая рана, а может, давит перманентной ломотой, как гемотома под одеждой. Мне кажется, они сияют выплаканными до воспаления глазами и гложущей болью слов, не приведенных в действие. И темнотой на них и вокруг них ложатся незнание и безразличие остальных. Мое недавнее незнание, мое недавнее безразличие.
Фонари встретили меня с плачем и с плачем провожают. Фонари посадят меня в такси, когда оно за мной прикатит.
Захлебываюсь пьяной болью впитанных открытий и не знаю, куда мне с ней теперь.
Вот куда мне с ней теперь?.. Это не мне все нужно знать, думаю, это нужно знать... да хотя бы ей... той, которая с ним сейчас. Она же из-за него вон, какие козни строит, значит, любит как-то там, по-своему... ей, короче, виднее...
Все это ей надо знать, не мне. Я в прошлом, это лишнее. Это больно очень и тяжело... это не хилее, чем с Каро. Только Каро я могу чем-то помочь, попытаться как-то, а... ему... Да поздно помогать ему уже.. Да не мне ему помогать, в конце концов. Да... зачем оно так колотится, сердце... глупое какое сердце... неумное...
И вообще — кто сказал, что она не в курсе?..
«Я с ней говорить не могу, как со взрослой» — как-то так, кажется. Но что, если тут он сделал исключение. А может, она сама как-то прознала и после этого даже не отвернулась от него. От такого, вылезшего из асоциального, отмороженного болота.
Ладно, она не поехала бы с ним в замусоренную, нетопленную, прокуренную квартиру, в которой его отчим годами избивал его мать... убил его мать... почти убил... в которой он убивал своего отчима — и убил-таки... Нет, она не стала бы спать с ним там на грязных простынях, но она ведь все равно приняла его таким, как есть. Одну его сторону. Единственную известную и видимую ей. И эту сторону решила повернуть в хорошее русло — на заочку его записать, чтобы... ох, блин... рыдаю уже, как помешанная.
Конечно, он мужик и все решает сам. Так он мне сам звездел и то же повторял его бесподобие доктор-псих-мед Симон Херц: не думай, что мужчину можно что-то там заставить. Не мечтай даже. А она и не заставляет — он же согласен. Он согласен.
У меня явно бред. Может, я простыла, а может, просто перепила. Ко мне цепляются какие-то и все нет долбаного такси. И я решаю их не слышать, а продолжать слышать только пьяные, плачущие голоса в моей раскроенной раздраем голове.
Ночь бежит куда-то по своим ночным делам, а меня больше не мучает мой стандартный вопрос «а мне на фиг надо?» все это. Сказать по правде, давненько я себе уже этот вопрос не задавала...
Затем такси, наконец, подходит. Немного успокаиваюсь, но не из-за такси, а потому, что успела внушить себе, что «она, безусловно, знает».
***
Глоссарик на ГЛАВУ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЮ Пьяные фонари
технический дью дилидженс — проверка техничесой документации и технического состояния и исправности объекта перед покупкой
Jägermeister — немецкий крепкий ликер, настоянный на травах, название переводится, как егермейстер, т.е. главный охотник
Зовьет Унион — Советсткий Союз
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ Карточный домик
Начнешь увлекаться этим самым «неравнодушием» — затягивает так, что больше и не спрыгнуть.
В наши утра пробрался зубастый сентябрьский холод, поэтому должно хотеться чаю, но меня все не отпускает его давнишняя история. Впечатления от драмы, услышанной вчера, я вместо чая спешу заесть своим любимым лакомством.
— Ну, ты экстремал...
Увидев, как я, покашливая, собираюсь приняться за мороженое, Рози выскакивает ко мне из подсобки, готовая вырвать из рук ложечку.
Я зачем-то пришла сегодня к Сорину — действовать на нервы. Им обоим.
Они теперь пытаются угощать меня нахаляву, но я железно отказываюсь, мол, а то это тогда уже «не то», не тот культ, в статус которого мы с Рози некогда возвели ДольчеФреддо.
Да это и теперь уже не то и дело даже не в том, что они, похоже, собрались переименовывать кафе. Но ладно, я ведь рада за Рози.
— Обойдется... — принимаюсь я за поглощение мороженого, которое запиваю двойным эспрессо.
— Застудишь горло! — сокрушается Рози, но Сорин и ей ставит вазочку, чтобы не скучала. Вкусив его чувственный поцелуй, как «стартер», Рози тоже начинает лопать.
— По фиг, мне допинг надо... — хапаю я его ложками. — Успокоительное, that is.
— От чего это?
— От прошлого.
— О-о-о, не люблю прошлое...
— За что?
— Во-первых, за то, что оно прошло — порой это его главный минус, — рассуждает Рози. — А во-вторых, оно, хоть и прошло, имеет свойство напоминать о себе, нет-нет — а это уж вообще стремота. Я вот, к примеру, не люблю детство свое вспоминать.
Я прекращаю есть, беру ее за кончики пальцев и говорю:
— Тебе тяжко было.
Рози есть не прекращает, а просто кивает, сжав мои пальцы:
— Мама в Берлине в кафе-мороженом работала. Спала с хозяином-итальяшкой, который любил на работу румынок брать. Мы ж и красивенькие, и чернявые, но куда дешевле итальянок. И с нами можно, в случае чего.
Я слышала эту историю давно — уже и подзабыть успела.
— Жена у него была настоящая итальянская стерва. Оч-чень ревнивая. Но он тоже был хитрожопый гад и шифровался по-жесткому. Маме квартиру снял в другом районе. Подарки дорогие покупал, а она всегда их продавала, а деньги отсылала мне. Потом он маму замуж выдал... за одного, там. С ПМЖ. Мама меня сразу в Берлин привезла. Ну, поселилась я у них... Тот и давай меня лапать.