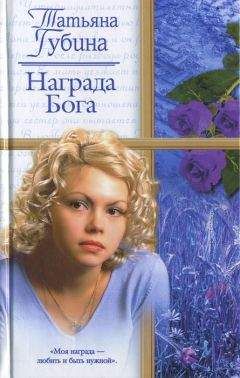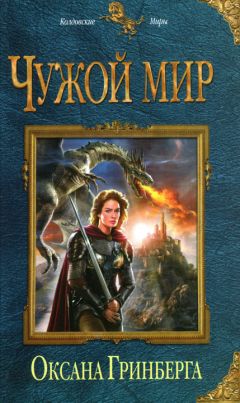Татьяна Губина - Чужая
— Нинка, ну ты где, у меня трубы горят, пойдем треснем! — раздался капризный голос квартирантки.
— Потерпишь, не в первый раз, — проворчала Нина, поднимаясь по ступенькам к квартире. — Ну ты что, у клиента не могла телефон взять, предупредить о приходе? — Они уже прошли в кухню и уселись за шикарно накрытым столом, сервированным быстрой Элей.
— Да я еле ноги унесла, Нинка. Такой придурок оказался, — легко оправдывалась Эля, разливая водку по стопочкам, — да и тебе вроде я кстати пришлась. Это та самая Таня?
— Та самая, — хмуро ответила Нина, резко, отработанным движением опрокинув рюмку беленькой в рот.
Вера Семеновна, решив что дочь озабочена своими проблемами, медленно протянула руку к бутылке, цепко ухватилась за горлышко, и уже было собралась глотнуть вожделенной жидкости, как Нина мгновенно среагировав, отобрала бутылку у матери.
— Сидеть, не рыпаться! Ты свое уже получила! С кем сегодня гоношилась, пьянь подзаборная! — рыкнула на мать Нина. — Вот поверила тебе, оставила на свою голову, так нет, опять за старое принялась! Договорились же, что только дома пьешь!
— Что, доча, не получается в приличную семью втереться? — не осталась в долгу обиженная Вера Семеновна. — И не получится. Один раз свое упустила, так все — каюк, отвернулась от тебя удача. Теперь надо полагать, дочку с младенчества пристраивать решила? — хихикнула мать.
— Не твое дело! — заорала Нина. — Вечно ты мне все портишь. Единственный раз решила воспользоваться твоим пьянством, да и то все сорвалось! Пшла вон!
Вера Семеновна, поняв, что ей больше здесь не нальют, поджала сухие потрескавшиеся губы и, гордо подняв всклокоченную голову, ушла.
— Да ладно, тебе, Нин, — миролюбиво сказала Эля. — Хватит мать гнобить. Вроде все сошло. Эта твоя Таня от сочувствия к тебе вся согнулась. Да и ты тоже хороша, на кой ляд ее сюда вызвала?
— Да думала на жалость ее пробить, поговорить по душам.
— Так ты бы хоть холодильник и стиралку прикрыла, — принимая из рук подруги рюмку, поучала Эля. — А то строишь из себя сироту казанскую, а сама?
Нина хмыкнула и ничего не ответила. Они допили бутылку, убрали со стола и разошлись спать.
Нина улеглась под теплый бок дочери. Спать хотелось страшно, но спасительный сон не шел. Мешали стоны матери, которая забылась тревожным сном, и невеселые мысли, что пчелиным роем гудели в хмельной голове.
Она поднялась, заботливо укрыла Ксюшку и наклонилась к матери.
— Мам, — позвала ее Нина. — Ну, что, совсем плохо?
Но та не откликнулась, лишь повернулась на бок. Нина потянулась, чтобы погладить ее по голове, но отдернула руку. Как же давно она не гладила мать по когда-то роскошным пшеничным волосам…
Казалось, совсем недавно полная сил и жизненной энергии Вера Семеновна Кислова была лучшей портнихой города Воркуты. Она не то чтобы купалась в деньгах, но по советским временам была хорошо обеспечена. Могла одеть и накормить мужа, водителя автобуса, и маленькую дочку Нину. Но случилось горе — муж сгорел от неизлечимой болезни за полгода.
Вера Семеновна никак не могла прийти в себя. Тоска снедала душу, от горя хотелось выть не переставая. И только выпив на ночь полстакана горькой настойки, она могла заснуть. И, может быть, Вера Семеновна и взяла бы себя в руки, ведь маленькую Нину нужно было поставить на ноги, если бы к молодой тридцатилетней вдове не зачастил сосед Алексей Иванович.
Сначала он по-дружески заходил к соседке на огонек, жалел Веру, по вечерам пил чай с печеньем, дарил маленькой Ниночке незатейливые подарки.
Затем вместо железных банок хорошего чая стал приносить вино. Нина, хоть и мала была совсем, но страдала, уговаривала мамочку не пить с дядей Лешей. Его подарки она больше не брала, и как только видела в проеме входной двери высокую худую фигуру соседа, тут же уходила в комнату.
Вера клялась дочери, что легкая настойка не принесет ей вреда, а от разговоров с дядей Лешей ей становится немного легче. Дальше — больше.
Очень быстро бутылки настойки и вина сменились «беленькой», и с того момента жизнь Нины превратилась в ад. За полгода из квартиры исчезли сначала деньги, затем хрусталь, мебель и, как последний аккорд, швейная машинка «Веритас», которая кормила семью на протяжении долгих счастливых лет. Пожалуй, это был последний раз, когда Нина видела мать относительно трезвой.
Наутро, не найдя на полу своей кормилицы, Вера Семеновна проплакала два часа, а потом ушла из дома. Нина ждала мать сутки, а потом приехала сестра матери, и забрала племянницу к себе, в Нижний Новгород. Прожив относительно счастливо пять лет у тетки, Нина вынуждена была вернуться в Воркуту. Теткины дети подросли и стали претендовать на угол в маленькой двушке, который занимала двоюродная сестрица.
— Ты уж не обижайся, племяшка, — пряча глаза, лепетала тетка. — Вишь, мой Петька жениться надумал, да и Васька уже под потолок вымахал. А у Верки трешка в Воркуте. Может, за эти годы и оклемалась.
Нина молча кивнула, собрала свои скромные пожитки, и, зажав в руке купленный билет на поезд, покинула дом тетки. В свои двенадцать лет она понимала много больше, чем иные взрослые.
Мать жила все в той же квартире, правда, кроме рваного матраса на полу больше ничего не было. Она пила беспробудно, покупая пойло на те деньги, что выручала уборкой общественных сортиров на местном рынке да сдачей использованных бутылок. Как узнала Нина от соседей, дядя Леша помер пару лет назад, и Вера не могла его даже схоронить по-человечески. Так и сгнил ее верный собутыльник в братской могиле отказников.
Следующие пять лет до своего семнадцатилетия Нина с радостью бы вычеркнула из своей памяти. Она гнала от себя эти жуткие воспоминания, от которых мороз шел по коже и сводило судорогой желудок. Но никакая, даже сама сильная психологическая кодировка не смогла бы стереть из памяти состояние вечного голода и жгучей зависти. Зависти ко всему — к хорошей одежде, вкусной пище, счастливым улыбкам, удачной учебе однокашниц да и просто к любви и теплу. Ей было холодно, голодно и очень одиноко.
На следующий день после своего семнадцатилетия, благо она родилась в конце июня, и экзамены в школе уже закончились, Нина пришла домой, взяла паспорт, аттестат зрелости, сложила в школьную сумку запасные джинсы и майку и, заглянув на кухню, где гуляла веселая компания материных дружков, сказала:
— Я ухожу.
Мать подняла голову, с трудом сфокусировала взгляд и промямлила:
— Валяй!
— Мам, я не вернусь, — попыталась Нина переорать отборную матерщину мужиков. Но мать уже ее не слышала. Она уронила голову на руки и захрапела.
Нина захлопнула дверь. Но все же надо было кого-то поставить в известность, что она уезжает. Подумав секунду, она спустилась на первый этаж и нажала на старый обшарпанный звонок. Милая старушка Зоя Степановна часто пускала Нину ночевать, когда дома не было места даже на придверном коврике. Именно ей, старой одинокой женщине, Нина рассказывала о своих успехах или неудачах в школе, о своих первых симпатиях и о своей ненависти к матери. «Так нельзя, Нинуша, — ласково гладя девочку по голове, тихо говорила Зоя Степановна. — Какая бы ни была, она твоя мать. Ну что поделаешь — это болезнь. Страшная, разрушающая душу и личность болезнь».