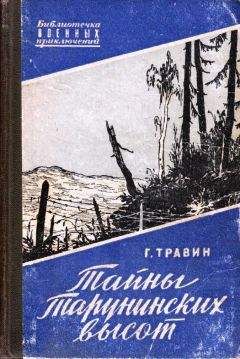Начало нас (ЛП) - Джеймс Лайла
Поэтому я делаю то, что обещала никогда не делать.
С огромным стыдом и абсолютным ужасом я склоняю голову и бегу, оставляя позади хаос, который я устроила. Что я сделала? Что я сделала?
О Боже…
Это кошмар. И я скоро проснусь. Должно быть, это кошмар.
Я — Райли Джонсон, уравновешенная и уверенная в себе. Спокойная, хладнокровная и собранная.
Я — Райли Джонсон, растерянная и слабая. Бесполезная, глупая и разрушенная.
ГЛАВА 5
Грейсон - 15 лет (лето перед вторым курсом)
Я смотрю, как Наоми играет в песочнице. В ее глазах горит возбужденный блеск, и я повсюду слышу ее восторженное хихиканье.
Мне больно, что я теперь не могу слышать этот смех каждый день.
Женщина садится на корточки рядом с Наоми, и ее не волнует, что ее одежда испачкана песком. Ее внимание полностью сосредоточено на моей сестре. Она что-то говорит Наоми, от чего моя маленькая принцесса смеялась еще сильнее.
Наоми протягивает ей совок и жестом предлагает женщине начать копать, что она с радостью и делает. Она не отказывает моей сестре. На самом деле они настолько гармонируют друг с другом, что кажутся идеальным образом матери и ее дочери.
Ее муж находится всего в трех футах от них, с телефоном в руке и фотографирует их. Он улыбается, и в его глазах тепло. Я вижу, что он заботится.
Меня это чертовски бесит.
Это подобие идеальной семьи.
Это моя сестра. И я вынужден смотреть отсюда — на постороннего человека в истории Наоми.
— Ее любят, — наконец, говорит Диана через некоторое время. — И она счастлива.
Но это неправильно. Это не может быть правильно.
Это несправедливо, что они забрали ее у меня. Несправедливо, что моя сестра счастлива с кем-то другим, а я наблюдаю издалека. Это неправильно, что мы больше не можем быть вместе.
Это неправильно, что у нее новая семья…
Потому что я ее семья. Ее единственная семья.
Это чертовски несправедливо.
Я прохожу мимо двери с пакетом нарезанного белого хлеба под мышкой и пакетом молока в руке. На этой неделе я не мог позволить себе яйца. Думаю, нам придется обойтись хлебом и тем маслом, которое у нас осталось. Мне просто нужно убедиться, что у Наоми есть еда и ее желудок сыт, прежде чем она пойдет спать. Это все, что имеет значение — даже если это означает, что мне придется голодать, чтобы у нее было достаточно.
— Наоми, я дома, — тихо объявляю я, чтобы сообщить ей, кто входит в трейлер. Здесь темно, и я щурюсь, пытаясь увидеть, где моя сестра. Кто выключил свет?
Я кладу хлеб и оладьи на стол и тянусь к выключателю.
— Наоми? — Я зову снова.
В тот момент, когда включается свет, я слышу легкую икоту. Мрачный, приглушенный крик. Звук, который мне знаком. Повернувшись на шум, доносящийся из матраса, я подхожу ближе.
Моя мать там, на ее стороне. Лицом к стене. Ее темные вьющиеся волосы в беспорядке лежат на голове, и я знаю, что она не расчесывала их уже несколько дней. Я не уверен, когда в последний раз она вообще вставала с постели или принимала душ. Она ест в постели, почти не разговаривает ни с Наоми, ни со мной и просто спит. Если она не спит… Она пьет. Если она не пьет, она кричит.
А если она на нас не кричит… она где-то трахается.
Моя мать спит, и я вижу Наоми, прижавшуюся к ее телу. Она обнимает маму за талию своими крошечными ручками и прижимается к ней. Крошечные крики, которые я слышал раньше, исходили от Наоми.
Я присаживаюсь рядом с матрасом.
— Привет, принцесса. — Она не поднимает голову, как обычно, при звуке моего голоса. Странно, но я не зацикливаюсь на этой маленькой детали.
— Я приготовил нам ужин, — говорю я ей тихо. — Как насчет того, чтобы выпить стакан теплого молока перед сном и дать маме поспать? Я почитаю тебе, прежде чем мы пойдем спать. Иди сюда, дорогая.
Я собираюсь схватить Наоми, и моя рука касается холодного лица моей матери. Сейчас поздняя весна, и в трейлере жарко и влажно. Пот стекает по моей спине, а мокрая рубашка прилипла к коже. При ощущении прохладной плоти моей матери в моих ушах звенит тревожный звоночек.
Я с тревогой хлопаю ее по лицу, но она даже не дергается.
— Мама? — Мой голос дрожит. Я не помню, когда в последний раз разговаривал с ней напрямую.
Нет…
Я не помню, когда в последний раз называл ее «мамой».
Она уже много лет не была моей «мамой». И я думаю, что в какой-то момент она даже перестала пытаться или заботиться.
Я трясу маму сильнее. Но ее плоть такая холодная на ощупь, это не может быть нормальным. В ее теле больше не осталось тепла.
Этого… не может… произойти.
— Мама! — Я говорю громче, мой голос отчаянный. Холод пробегает по моей спине, и отчаяние течет по моим венам. Страх запирается внутри меня, царапая поверхность.
Но я не могу сейчас потерять свое дерьмо. Я не могу. У меня есть Наоми; Мне нужно сосредоточиться на ней.
Прерывисто дыша, я протягиваю руку вперед и помещаю палец прямо ей под нос. Жду каких-либо признаков жизни.
В отчаянии я проверяю ее пульс. Хотя я знаю, что это бесполезно.
Единственное, что здесь осталось, — это холодное мертвое тело моей матери.
Я жду муки или страдания, которые я должен чувствовать, но ничего не чувствую.
Схватив Наоми, я пытаюсь отвязать ее от нашей матери. Она цепляется сильнее, отказываясь отпускать.
— Наоми, отпусти. — Мой голос звучит необычайно резко, совсем не похоже на меня. Мир вращается, но я все еще не чувствую… ничего.
— Н-н-ет.
У меня сбивается дыхание.
И мое сердце разбивается.
Ее крошечный, хрупкий сломанный голос опустошает меня. И я не думаю, что когда-нибудь снова буду прежним. Звук ее голоса, единственный раз, когда я его слышал, погубил меня.
Наоми, наконец, отпускает меня, и я падаю обратно, держа ее на руках. Я прижимаю ее к груди, а она тихо плачет. Она знает.
Ей всего четыре, но она знает.
Наоми плачет, а я нет.
Я не знаю, потому что единственное, что эхом звучит в моей голове, это ее голос.
Я не плачу, потому что ничего не чувствую.
Я не чувствую… потому что не могу себе этого позволить.
Наоми нужна мне целиком.
Моя сестра хочет, чтобы я был сильным. Для нее.
Я ее старший брат.
И теперь я — все, что у нее есть.
В тот день, когда я вытащил свою младшую сестру из-под талии нашей мертвой матери, я понял, что в жизни больше никогда не будет ничего справедливого. Ничто никогда не будет правильным.
Единственный раз, когда моя сестра заговорила со мной… это когда я оттащил ее от трупа нашей матери.
— Тебе с Наоми пришлось слишком быстро повзрослеть, — тихо говорит Диана, наш социальный работник из Ямайки. — Она еще так молода, и ей нужна семья. Кто-то, кто может стать для нее матерью и отцом.
— Я был для нее ими обоими. Я вырастил ее, — каркаю я, мой голос дрожит. В детстве я менял ей подгузники, кормил ее, одевал, не спал с ней всю ночь, когда она болела, читал ей… Я был всем, чем она нуждалась во мне.
Я единственный человек, который может любить ее так, как я… потому что она — часть меня.
— И тебе не следовало этого делать. Ты сам был - и есть ребенок.
Я качаю головой, слезы жгут глаза. Я не плакал, когда умерла наша мама. Они уже разлучили Наоми со мной. Приемная семья – жестокая система. А вот если ее у меня отберут навсегда… Не думаю, что я это переживу.
— Я ей нужен. Я ее единственная биологическая семья, и вы хотите отнять это у нее? Она принадлежит мне.
Диана вздыхает, и я слышу в этом раскаяние.
— Наоми нужен стабильный дом, и это ее шанс.
— Но я же говорил вам, — огрызаюсь я, ненавидя то, как Диана создает впечатление, что эти незнакомцы могут любить ее больше, чем я, лучше, чем я, — я планировал удочерить ее, когда мне исполнится восемнадцать.