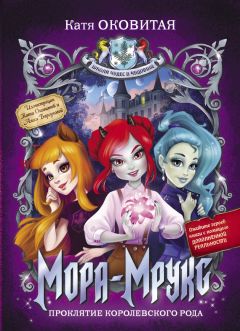Евгений Хохлов - Сны женщины
Там по стенам – экзотические пейзажи. И фотографии, как и везде в доме. Но фотографии почти все незнакомы: южные виды, море, снежные вершины и пальмы, какие-то люди на фоне моря и гор, «Привет из Крыма» или «с Кавказа» – совсем неинтересно… А это, пожалуй, молоденькая Ванда на берегу – в легком платье с низкой талией, подхваченной лентой-пояском, и в соломенной шляпке. Или не Ванда? Шляпка надвинута слишком низко, лицо в тени.
Что у нас дальше по коридору?
Кабинет. Раздвинем тяжелый бархат оконных портьер, чтобы впустить свет. И – ничего неожиданного, все как в том сне: бюро у стены в перламутровых инкрустациях. Барский диван, одетый мягкой кожей. На нем – толстый валик и кружевной подголовник, наверняка Вандиного плетения. Она иногда занималась рукоделием и довольно ловко шила, вышивала, плела и вязала.
Высокие застекленные шкафы под потолок. Темный лак, бронзовые щеколды, на стекле – гравировка. В шкафах ровные ряды книг – коричневая, черная, зеленая кожа переплетов и золотое тиснение. Книги в прекрасной сохранности, будто их никогда не читали, не листали, вовсе не брали в руки.
Большой стол на тумбах, на столе бронзовая лампа под абажуром молочного стекла, письменный прибор – старинная бронза и хрусталь. Чернильницы пусты, чисто вымыты, у одной (такая жалость) сколот край, и крышка с высоким орлом-ручкой прилегает неплотно. Тяжелая печатка – серебряный заяц с глазами-изумрудами на ониксовой пластине. На ней – неясный вычурный вензель-печать. Плоский костяной кинжал для разрезания книг, рукоятка в серебре. Коричневый бархатный бювар с бронзовой нашлепкой, на которой вензель такой же, как на печатке, и стопка старинной, плотной и тяжелой мелованной бумаги, пожелтевшей и неприятно скрипящей, если случайно задеть ногтем.
Здесь же на столе разнокалиберные фотографии в рамках во множестве. И все – молодая Ванда. Ванда-змея в сверкающем чешуйчатом платье, руки в длинных перчатках переплетены двумя змеями, пальцы сжаты. Поверх перчаток змеиными глазами сверкающие перстни. Ванда – черная пантера в костюме в обтяжку, изогнулась и машет длинным хлыстом, как хвостом, выражение лица – свирепое и сладострастное одновременно, белые зубы оскалены. Страшноватая фотография. А эта? Ванда-страус, ноги в трико, атласные туфельки, каблук рюмочкой, турнюр из пышных перьев и хохолок на облегающей шелковой шапочке. Локти врозь, ладони сложены под подбородком, широкая нарисованная улыбка, глаза под огромными наклеенными ресницами смеются. Очень задорно. А здесь Ванда лежит в ящике фокусника, и видно, что лежать ей там очень неудобно. Ее сейчас распилят, уж и пила нависла. Этот фокус всем известен, а потому давно не вызывает интереса. Следующее фото гораздо интереснее: огненный круг, большой костер, и Ванда-саламандра – горит и не сгорает, смеется из огня, танцует, жонглирует пламенными шариками… Ванда-циркачка, возлюбленная и ассистентка знаменитого некогда мага и иллюзиониста Северина Лефоржа, Татьяниного дедушки. Между прочим, ни одной его фотографии нет. Бабка эмансипировалась и повыбрасывала. А жаль.
Идем дальше? Конечно же.
Вот альков в торце коридора. Здесь, за голубым занавесом, нечто вроде будуара. Кокетливые креслица и пуфы. По стенам, как и везде, фотографии, и еще картины с букетами и фруктами. Небольшие и очень симпатичные. Ковер на полу тоже в букетах и фруктах. Кушетка (для дневного отдыха?) у окна, в изголовье пуховые подушки, расшитые Вандой цветами самолично. Это ее гладь – тонко подобранный по оттенкам шелк, длинные разбегающиеся косые стежки. Когда-то Ванда такими стежками расшила Татьяне подол платьица и все следила, чтобы платьице внучка не замарала и не порвала. И Татьяна платьице носить отказалась, поэтому оно до сих пор, целое и незамаранное, сложено в изготовленный Вандой же полотняный мешочек, весь в прошивках для вентиляции и для красоты, и спрятано в комоде в ее далекой заброшенной квартире… В изножье кушетки – огромная расшитая пионами голубая китайская шаль, как лежала во сне, так и лежит.
Рядом с кушеткой – высокий плетеный короб в два отделения. Что в нем? Журналы для рукодельниц за многие-многие годы. Самые первые – начала двадцатого века, последние – давностью в год-два. В другом отделении короба – вязальные спицы, крючки, пуговицы, разнообразные нитки, тесьма, кружево и лоскутки, иголки-булавки, кнопки-крючки – все разложено по коробкам и пакетикам, перевязано ленточками, перетянуто аптечными резинками. Вандина отрада, никому теперь не нужная. Никому, даже маме, которая в минуты очередной жизненной драмы, любовной неурядицы, случалось, садилась за пяльцы и вышивала платочек-другой или вязала крючком салфетку из белых ниток под названием «ирис».
Что до Татьяны, то рукоделье не приносило ей успокоения. Вязанье раздражало монотонностью, шитье не ладилось, за вышиванием она чувствовала себя полной дурой. Оторвавшиеся пуговицы просила пришивать костюмершу. И никогда – никогда! – не зашивала дырки даже на любимых вещах. Все выбрасывала и ругала себя при этом безалаберной обезьяной. Потому что именно так ее обзывала Ванда, а вслед за ней и мама, когда на Татьянином платье или колготках обнаруживалась очередная дыра. Ванда ругала довольно-таки злобно, мама ласково и рассеянно – чаще всего. Ванда велела зашивать самой, мама забывала и, вновь обнаружив старую дыру, укоряла заново. «Обезьяна безалаберная, бездомная кошка, огородное пугало. Вороны тебя, Танька, что ли, поклевали? Дыра на дыре», – это мама. «Зашивай, обезьяна безалаберная, кошка бездомная, пугало огородное. Зашивай, безрукая, бери иголку, а то жизнь в дырках будет!» – это Ванда.
Жизнь в дырках, спасибо Ванде-пророчице. И дом, спасибо Ванде. Да, дом. И кошка в доме. Вандина или приблудная? Нет, не кошка, пожалуй, а кот – вон какой здоровенный и мордатый, и усищи вразлет. И глаза желтые. Откуда он взялся?! И так похож на игрушку, которая болталась на ветровом стекле, когда ее везли сюда. Ожившая игрушка?
…Опять сон?!
Нет, кот явился наяву. Тихо мяукнул, повертелся на месте, потерся о ногу Татьяны, отошел и оглянулся.
– Куда ты меня зовешь, усатый?
Кот выгнул спину, коротко мяукнул в ответ и – хвост трубой – двинулся к лестнице, ведущей в мансарду. Там, кто-то говорил, спальня с видом на море? Не мечтала ли она о такой в своих разъездах, странствиях и заточеньях?
– Ну, идем, идем. Куда же ты делся?
Кот уже взошел по лестнице и сидел перед единственной дверью в мансардном этаже.
– Открывать? Кис-кис?
Дверь открылась, стоило лишь слегка коснуться ручки. За дверью царила мягкая белизна.
– Кис-кис? Ты ведь сюда хотел?