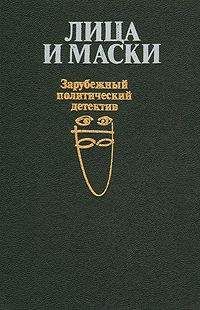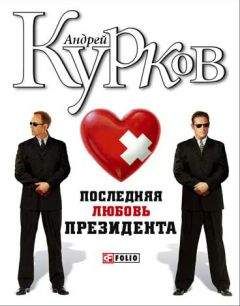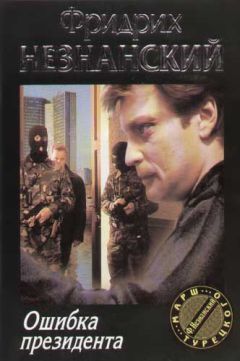Энрико Франческини - Любовница президента, или Дама с Красной площади
Или случается так, что, силясь уследить за ее певучей речью, понять все русские слова, я устаю. И тогда перестаю ловить смысл фраз, а сосредоточиваю все внимание на ее дыхании. Наташа делает вдох, потом выдох. Вдыхает, выдыхает, вдыхает, выдыхает. И я чувствую, что тоже становлюсь воздухом, наполняю ей рот, растекаюсь по всем разветвлениям легких, проникаю в кровь, дохожу до сердца…
Прихожу в себя после мгновения такой сладостной полудремоты, пропустив добрую половину того, о чем она говорила.
— …всегда такой вежливый, любезный. Терпеть не может сквернословие. Не выносит, когда кто-нибудь теряет над собой контроль. И кроме того, он ведь родом из деревни, происходит из крестьянской семьи и с детства впитал некоторые хорошие качества. Например, чувство ответственности. Когда ему плохо, когда он чем-то встревожен, огорчен, он не должен показывать вида, не хочет, чтобы это отражалось на окружающих, на близких ему людях…
— Это относится даже к жене? Они кажутся такой дружной парой.
— Только кажутся. Он познакомился с ней в Москве, когда поступил в университет. Это был первый шаг в его карьере. Попал в самое престижное учебное заведение в Советском Союзе. Но все же он оставался провинциалом, бедным деревенским парнем, студентом, принадлежащим к меньшинству — к тем примерным, образцовым мальчикам, которые, не входя в круг элитарных семей, без влиятельной поддержки, без блата, все равно сумели поступить в столичный университет, потому что они умные, серьезные, дисциплинированные, настойчивые, действительно хотели учиться. А он к тому же обещал еще стать образцовым коммунистом. Он рассказывал мне, что приехал в Москву восемнадцатилетним юношей, имея лишь одну пару брюк — ту, что была на нем. У него родители были крестьянами. А ее родители — образованными людьми, принадлежащими к высшему социальному слою. До замужества она уже бывала в Москве, для нее столичная жизнь, поступление в университет не были, как для него, шоком.
— Вы подразумеваете, что он на ней женился ради выгоды?
— Нет. Это была настоящая любовь, я в этом уверена. Но для него эта девушка — уверенная в себе, волевая, педантичная, с налетом интеллектуальности, а к тому же очень хорошенькая — представляла нечто совершенно новое, не похожее на мирок, в котором он вырос. По сравнению с ней девушки его края, Юга России, казались женщинами прошлой эпохи. Ясное дело, в московском университете были и другие студентки в таком же духе. Но у нее была особая черта: она была моралисткой. Большой моралисткой. Она не делала различия между товарищами по учебе, между детьми из номенклатурных семей и меньшинством, поступившим в университет благодаря собственным заслугам. Между богатыми и бедными, как сказали бы вы на Западе. Таким образом, он привлекал ее по прямо противоположным мотивам. Для него эта молодая женщина была также возможностью подняться выше по социальной лестнице: он, вернувшись в родное селение, мог бы хвастать ею, как полученной при защите диплома высокой отметкой, как орденом Ленина или другой наградой. Это был человек, вместе с которым он мог делать карьеру. Для нее же любить его было способом верить в социализм: в социальное равенство общества и классов, в пролетарскую справедливость. Он любил ее, потому что ощущал некоторым образом ее превосходство. Она любила его, потому что ощущала, что он ниже нее в социальном отношении. Он, сельский житель, верил в здравый смысл, честность, конкретную работу. Она верила в идею, в социализм, в марксизм-ленинизм. Он — человек практичный, ее женская голова набита теориями. Поэтому, познакомившись с ним в университете, она почувствовала в нем природную, спонтанную силу, которой не было у других более культурных и интеллигентных сокурсников: силу честолюбия, но чистую, ничем не замутненную, бескорыстную и неподкупную.
— Это могла быть идеальная комбинация для брака. У нас есть пословица, которая гласит: противоположности сходятся, — заметил я.
— У нас тоже так говорят. В самом деле, вначале это была удачная комбинация. После окончания университета, поженившись, они перебрались в Краснодар, где и началась его политическая карьера. Постепенно, не спеша, не прошло и десяти лет, как он оказался на вершине местной власти, стал человеком номер один в крайкоме партии. У него было все: красивая жена, двое прекрасных детей, удобная квартира, комфортабельная дача, автомобили с водителями, довольно много денег, не считая всех подарков, подношений и привилегий, о которых он не просил, но которые получал в силу своего положения. В том провинциальном городе, в том отдаленном южном крае его чтили, побаивались и уважали как маленького царька. Деревенский паренек, выходец из крестьянской семьи, своего добился. Если бы он этим удовлетворился, мог бы оставаться в Краснодаре до конца своих дней.
— Но он не удовлетворился…
— Он стремился к большему. И она тоже хотела большего. Но погоня за все более высоким положением изменила отношения между ними. Дома, с глазу на глаз, она говорила о его должности Первого секретаря Краснодарского крайкома как о чем-то весьма жалком и незначительном. Ты, уверяла она, стоишь куда больше, чем любой руководитель области или края. Но трудности в восхождении к власти были огромны: зависть, интриги, подсиживание, недоверие, идеологические судилища, необходимость неизменно представлять официальную точку зрения в бурный и сложный переходный период между Сталиным и Хрущевым. Безжалостная, жестокая борьба, настолько безжалостная, какой только может быть борьба между коммунистами в нашей стране. И чем больше возрастали трудности, тем острее ощущал он необходимость излить кому-нибудь душу. Но с кем он мог поговорить, с кем? В университете у него был друг, приехавший на учебу в Москву из Чехословакии, естественно тоже коммунист, но несколько иного толка, особенно по сравнению с большинством тогдашних членов партии. Они с этим чехом были схожи. Вели друг с другом доверительные беседы насчет всего того загнивания системы, которое происходило у них на глазах. Но впоследствии, когда он сделал карьеру в КПСС, он прервал с чехословацким приятелем всякие отношения. Вот так, разом, без всяких объяснений. Иначе он рисковал скомпрометировать себя симпатиями к «пражской весне», к Дубчеку. Понимаете?
— Мне кажется вполне нормальным, что у советских руководителей, если они пекутся о своей карьере, могут быть опасения такого рода.
— Да, конечно, но разве можно так жить? А кроме этого студента-чеха, у него никого не было, это был его единственный друг. Вы никогда не задавали себе вопроса, почему за все эти годы гласности и перестройки не появился ни один его старый знакомый, который рассказал бы о нем какие-нибудь подробности? О том, каким он был раньше? Советские и иностранные журналисты рыскали повсюду, приезжали даже в его родную деревню под Краснодаром, расспрашивали его бывших школьных соучеников, бывших учителей, коллег по партийной работе, и все впустую — не обнаружилось совершенно ничего интересного… Цензура тут ни при чем. Единственная причина — его одиночество. Свое восхождение к власти он совершал в одиночестве. И даже когда это восхождение завершилось, когда он достиг самой вершины, он остался одинок, не хотел иметь рядом «соратников», «учеников», «продолжателей», не откровенничал даже с ближайшими сотрудниками, с которыми проработал много лет. Он никому не доверял.