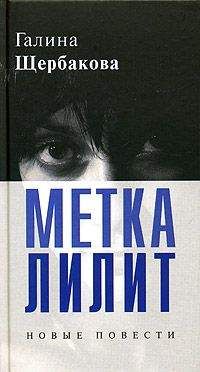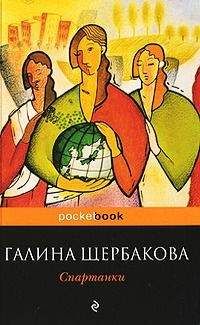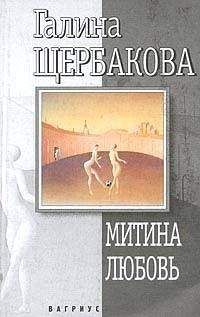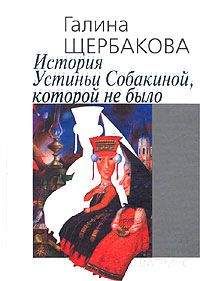Галина Щербакова - ...По имени Анна
Мой могучий прекрасный муж ничего подобного не сделал, и почему-то у меня защемило сердце. У меня повысилось давление, я легла, и мысли о том, что все неправильно, что все это не к добру, поедом ели меня. Николай сел рядом, укутал мне зябнущие ноги и сказал:
– Ты знаешь, как я люблю Мишку. Ради его благополучия я без всяких яких поступлюсь принципами. Знаешь… Даже если этот Саня Григорьев, как он себя величает, придет и скажет Мишке, что он отец, я что, перестану Мишку любить? Или он меня? Тебя? Я не боюсь этого… Я боюсь нищеты для сына. Я тоже хотел бы, чтобы он вырос настоящим русским европейцем. Сами мы этого не можем. Я вот хотел пойти в одно крутое охранное агентство. Меня только раздели в медпункте и сразу сказали: «Одевайся, мужик! На тебе же нет живого места, в тебя некуда стрелять, ты без нас уже насквозь прошитый».
Я не знала, что он куда-то ходил. Я обхватила его как сумела – какие-то вялые, беспомощные руки. Господи, как я его люблю! И как мне не стыдно – вырастить в себе эту жабу: будто бы оскорбленные будто бы принципы.
И жизнь пошла своим чередом. Мишка вернулся из экспедиции загоревший, возмужавший, окрыленный.
– Я влюбился в степь. Одинокая юрта и пасущиеся лошади – лучший пейзаж, который я когда-либо видел. Степь не скрывает землю, она цветет ею, трава-то ближе всего к сердцу земли, в ней больше знания и мудрости, чем в великане баобабе.
– Это поэзия, сынок, – сказала я, – а для дела ты познал что-нибудь?
Мишка смотрел на меня как на тяжело больную.
– Мама, – сказал он. – Разве любовь хуже познания? Разве она не высшее постижение мира?
– Любовь к степи? А к лесу? А к морю? А к небу? Это все, по-твоему, меньше?
По-моему, меньше, – сказал он. – Хотя каждый выбирает свое.
* * *Мишка учился хорошо и легко. Мы купили ему компьютер – на свои деньги. Боялись, что отвлечет от занятий, но у всех последняя игрушка двадцать первого века стояла, не хотелось, чтобы наш сын был обделен. Он сразу вышел в Интернет, без баловства, а с подлинным интересом.
Звонила Елена. Очень радовалась за дочь. Звала смотреть фотографии. Сообщила, что Валюшка забеременела, хочет приехать к родителям, пока Ефим мотается где-то по северу в поисках следов Домбровского.
– Я как подумаю, – говорила Елена, – что мы живем в его квартире, просто холодею, как иногда складывается жизнь. Я по просьбе Ефима стараюсь описать квартиру такой, какой она была, когда мы с мужем, молодые еще, получили две смежные комнаты в той коммуналке. Это было сразу после доклада Хрущева. Коммуналка была жуткая, грязная, запущенная. В ней прошли война и послевойна. Люди сменяли друг друга. Собственно тех, кто въехали в нее первыми, уже, по-моему, и не было. Жила одна старуха, вдова кэгэбешника, все каркала, что раз Сталин умер, то придет конец всему, лучше, если будет война, мол, люди мы русские, и нам в войне лучше, чем в мире. А если войны не будет, то вернутся Домбровские и всех турнут под зад. И куда тогда им податься? Она обрадовалась нам, молодым: раз, мол, коммуналки укрепляют молодыми, значит, не все сталинское потеряно. А Хрущева скоро попрут, деревня деревней. Конечно, никаких следов жизни Домбровских уже и тогда не сохранилось. Я только смогла нарисовать план квартиры – она еще не подвергалась перестройке. Да что там говорить? Мы первые и начали там что-то ломать и ремонтировать. А когда родилась Валюшка, вызвали свекровь из Кинешмы, кто-то же должен был сидеть с ребенком. Тогда было строго: два месяца декрета – и будьте любезны на работу. А когда Хрущев начал строить Черемушки, люди стали получать отдельные квартиры, к нам уже никого не подселяли. Муж уже стоял на ногах крепко, его ценили в партийных органах. Дольше всех жила вредная старуха, ей одной квартиру не давали, она страшно этому радовалась, а мы мучились с ее нечистоплотностью, привычкой жить как в хлеву. Когда она стала поджигать в подъезде двери квартир, ее забрали в психушку, но комната за ней числилась еще года три и стояла запертой. А потом она умерла, мы продезинфицировали ее комнату и поселили в ней свекровь. Плохие у нас с ней были отношения, она не любила внучку, потому что мы не разрешали ей ее воспитывать. Ее обязанность была накормить и выгулять ребенка, потом отвести в школу и встретить. У девочки была своя комната. Светлая такая. Должно быть, и у Домбровских это была детская… Так что я Ефиму в его расследованиях не помощница. Ты гораздо больше знаешь. Ну зачем так упрямишься, не хочешь делиться своими воспоминаниями?
– Да нет у меня воспоминаний! Жила у дворничихи до получения места в общежитии.
– Ах, Анечка! Писателю ведь нужны детали. В человеке остаются следы детства, как бы его ни крутила жизнь. Мне так хочется ему помочь в его святом деле.
Приехала Валюшка с огромным животом. Злилась на мужа, что оставил ее в таком состоянии.
Елена сочувственно вздыхала.
– Конечно, ей надо рожать в Германии. Все-таки два выкидыша. В этом я не понимаю Ефима. Но, даст Бог, он вернется к родам. Ждем письма.
Случилось же так, что я первая получила письмо от Ефима.
Эмилия, или Благая весть от Ефима
«Добрый день, Анна, Николай и Михаил! Кажется, я наконец нашел, что искал. Я пошел поиском по леспромхозам, где работали заключенные. Господи! А где они не работали? В общем – следов никаких. Никто об ученом Домбровском слыхом не слыхивал. Такое у вас отечество, дорогие. Но я упрямый. Пошел искать любителей-краеведов, любителей-ботаников, любителей кладбищ. Вот уж чем вы, друзья мои, богаты, так это любознательными сумасшедшими. По каждой теме их миллион. Но опять же… Народ они неорганизованный, кучкуются не всегда, друг другу не доверяют. Одной человеческой жизни мало, чтобы на них только глазом глянуть. Я дал в газетах леспромхозных районов объявление (платное), что ищу любые следы ученого-ботаника Домбровского за деньги в валютном исполнении. Дал свой адрес. Из всех леспромхозов пришла информация, что он был именно там. Я усложнил задачу. «Ищу данные о смерти Домбровского». Пошел новый селевой поток, пожиже первого, но все же. Зарезали урки. Застрелили вертухаи. Повесился на сосне. Умер от воспаления легких. Живет в такой-то деревне под Котласом. Последнее было занятно. И я поехал в деревню. Действительно, есть там древний дед Домбровский. И все остальное совпадает тоже. Имя, год рождения. Но он такой же Домбровский, как я Юлий Цезарь. Урка. Бежал. Заблудился. Нашел в лесу трупы убитых. Снял с одного более или менее целую одежку и пошел дальше. Поймали. Уже не как урку, а как Домбровского – по номеру на той самой одежке! Но ведь того расстреляли! За бузу на лесоповале. На месте ребят положили и бросили – зима, голодный зверь съест человеческое мертвое тело. Пока с уркой разбирались, началась финская. И уже тогда начинались инициативные, самопальные штрафбаты – посылали первыми по болотам, по минам заключенных, которых там как грязи. Ну, и попал туда Лжедомбровский. Войну всю прошел. Выправили ему документы по учетной карточке. Так и живет до сих пор. «Какая разница, – говорил старик, – с какой фамилией помирать? Правда, тут у меня вышла стыдная вещь. Дочь его меня нашла. Кинулась на грудь: «Папочка! Папочка! Я Эмилия! Я Эмилия!»