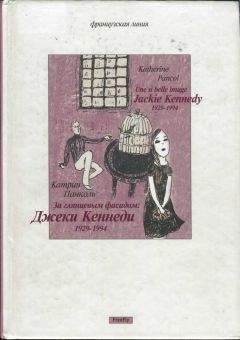Катрин Панколь - Черепаший вальс
— Напоминаю, я могу появиться в любой момент, и если работа не сделана…
— Я буду наказана.
Он опять хлестнул ее рукой по лицу изо всех сил, она застонала. Он ударил ее так сильно, что зазвенело в ушах.
— Вы не имеете права говорить, пока я вам не разрешу!
Она заплакала. Он ударил ее опять.
— Это крокодиловы слезы. Скоро вы прольете настоящие слезы, слезы радости… Поцелуйте руку, наказующую вас.
Она склонилась, робко поцеловала ему руку, едва касаясь ее губами.
— Хорошо. Может, мне и удастся что-то из вас сделать. Вы быстро учитесь. Во время всего курса очищения вы будете одеты в белое. Не желаю видеть ни одного цвета. Цвет — это разврат.
Он схватил ее за волосы, потянул назад.
— Опустите глаза, я вас проинспектирую.
Он провел пальцем по ее лицу, не обнаружил ни следа косметики и удовлетворенно сказал:
— Вполне возможно, вы уже начали что-то понимать.
И усмехнулся.
— Любите силу, не так ли?
Он подошел к ней. Задрал верхнюю губу, чтобы проверить, чистые ли зубы. Ногтем снял прилипший кусочек пищи. Она чувствовала его запах, запах сильного, могучего мужчины. Это хорошо, подумала она, что он такой. Лишь бы принадлежать ему. Лишь бы принадлежать ему.
— Если вы будете слушаться меня во всем, если вы вновь станете чистой, какой должна быть всякая женщина, мы с вами соединимся…
Ирис едва сдержала сладострастный стон.
— Мы вместе пойдем навстречу любви, единственной и неповторимой, той, которая должна быть освящена браком. В тот час, когда я решу… вы будете моей. Скажите: я хочу, я желаю, чтобы было так, и поцелуйте мне руку.
— Я хочу, я желаю, чтобы было так.
И поцеловала ему руку. Он отвел ее в спальню.
— Вы будете спать со сжатыми ногами, чтобы ни одна нечистая мысль в вас не проникла. За плохое поведение я буду привязывать вас. А! Вот еще, я буду класть каждое утро, в восемь часов, на ваш кухонный стол два ломтика ветчины и пригоршню белого риса, чтобы вы его сварили. Будете есть только это. Все. Ложитесь спать. Руки у вас чистые? Вы почистили зубы? Ваша ночная рубашка приготовлена?
Она мотнула головой. Он больно ущипнул ее за щеку, она едва сдержала крик.
— Отвечайте. Я не потерплю никакого отступления от правил, не то вам плохо придется.
— Нет, учитель.
— Сделайте это. Я подожду. Поторопитесь…
Она подчинилась. Он отвернулся, чтобы не видеть, как она раздевается.
Она скользнула в кровать.
— У вас белая рубашка?
— Да, учитель.
Он подошел к кровати и погладил ее по голове.
— Теперь спите!
Ирис закрыла глаза. Услышала, как за ним хлопнула дверь. Как в двери повернулся ключ.
Она стала узницей. Узницей любви.
Два раза в день Жозефина звонила мсье Фове и разговаривала с мадам Фове. Она настаивала, говорила, что с каждым порывом ветра из крыши вылетает еще несколько черепиц, что это опасно, что дом отсыреет, что скоро мобильник разрядится, и она больше не сможет звонить. Мадам Фове говорила: «Да, да, муж зайдет…» — и бросала трубку.
Дождь шел и шел. Даже Дю Геклен уже отказывался вылезать на улицу. Он выходил на разоренную террасу, нюхал морской ветер, поднимал лапу на груду разбитых глиняных горшков и, пыхтя, возвращался в комнату. Погода была такая, что и впрямь хороший хозяин собаку из дома не выпустит.
Жозефина ночевала в гостиной. Принимала холодный душ, потихоньку опустошала содержимое морозилки. Ела все сорта мороженого, «Бен и Джерри», «Хааген Даз», шоколадное с шоколадной крошкой, пралине со сливками. Наплевать, что потолстеет. Он все равно не приедет. Она смотрела на свое отражение в ложке, надувала щеки, чтобы быть похожей на миску со взбитыми сливками, снова вся перемазывалась шоколадом… Дю Геклен облизывал крышки. Он с обожанием смотрел на нее и извивался всем телом в ожидании новой крышки. У тебя есть невеста, Дю Геклен? Ты с ней разговариваешь или просто покрываешь без затей? Чувства, знаешь ли, утомляют! Гораздо проще наслаждаться едой, пичкать себя жирным и сладким. У рыцаря Дю Геклена никогда не было этих проблем, он никогда не был влюблен, он волочился за всеми девушками сразу и плодил бастардов, которые, едва народившись, отправлялись на войну вместе с отцом. Он только на это и годился. Разрабатывать стратегии, выигрывать битвы. С пятьюдесятью оборванцами он разбил целое войско англичан, пятьсот человек с оружием и катапультами. Переоделся в старушку с вязанкой дров за спиной. Ты представляешь! На старушку никто не обратил внимания, а когда Дю Геклен пробрался в город, он выхватил шпагу и принялся насаживать на нее захваченных врасплох врагов. В мирное время он скучал. Женился на умной, ученой женщине, она была старше него и увлекалась астрологией. Накануне каждой битвы составляла для него предсказание. И никогда не ошибалась! У мужчин отняли войну, вот они и забыли, кто они такие. В мирное время Дю Геклен скучал и делал всякие глупости. Единственная проблема мороженого со сливками, мой милый Дю Геклен, — после него слегка тошнит и хочется прилечь, но в животе такая тяжесть, что даже уснуть не удается, ты крутишься и булькаешь, как бутылка с молоком, а сон куда-то уходит.
Телефон мелодично звякнул. Эсэмэска. Она открыла. Лука!
«Вы знаете, Жозефина, вы все знаете, правда?»
Она не ответила. Я знаю, но мне плевать. Я с Дю Гекленом, в надежном укрытии, под крышей, повисшей клочьями, под мохеровым розовым пледом, который щекочет мне нос.
— Беда лишь в том, милый мой, что я разговариваю со своей собакой. Это ненормально. Я очень, очень тебя люблю, но ты не заменишь мне Филиппа.
Дю Геклен заскулил, словно его это и правда огорчило.
Телефон звякнул опять. Новое эсэмэс от Луки.
«Почему не отвечаете?»
Жозефина и не ответит. Скоро батарея сядет, не хочется тратить последние капли на Луку Джамбелли. Вернее, на Витторио.
Она нашла на книжной полке старое издание «Кузины Бетти»[141], открыла, вдохнула ее запах. Книга пахла смесью ладана и заплесневевшей бумаги. Она будет читать «Кузину Бетти» ночью при свете свечи. Вслух. Залезла под одеяло, поставила поближе свечку, красивую красную свечку, которая горела без потеков, и начала:
«В середине июля месяца 1838 года по Университетской улице проезжал экипаж, так называемый милорд, с недавнего времени появившийся на парижских извозчичьих биржах; в экипаже восседал господин средних лет в мундире капитана национальной гвардии. Парижан принято считать людьми умными, но все же некоторые из них думают, что военная форма им несомненно более к лицу, нежели штатское платье, и, приписывая женщинам весьма непритязательные вкусы, они надеются произвести выгодное впечатление мохнатой шапкой и золотыми галунами…»[142]