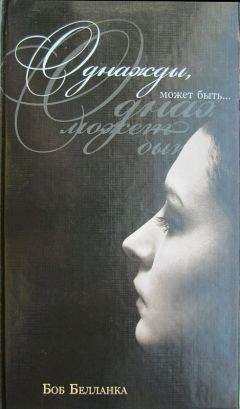Тамара Уманская - Граница. Таежный роман. Пожар
Она приплясывала на стуле от возбуждения. Глаза ее горели праведным гневом.
— А ведь неизвестно, кто твой родитель-то. Может, вредитель какой, может, враг народа! Сколь годов честным имечком пользовались! Никому и не знатко было! Да ты, поди, и в люди-те вышел через отца! Начальники-те пожалели, сирота, дескать, тятька на фронте геройски сгинул, дай-ко мы его на хлебно место пристроим…
Вадим, не отрываясь, смотрел на Зиночку, слушал… Эта фантасмагорическая смесь сибирского диалекта и казенных газетных фраз, крестьянского здравого смысла и лакейского хамства…
И тут будто кто-то толкнул его в спину.
Вадим оглянулся. Анна Станиславовна сползала по стене, прижав к груди стиснутые руки. Он не заметил ни ее серого лица, ни запавших глаз, он увидел посиневшие ногти. Вадим заметался. Воды, окно открыть, валидол… Он растирал ей руки, гладил по лицу, умолял очнуться и посмотреть на него… Потом бросился к телефону, вызвал «скорую». Все это время он не думал ни о Зиночке, ни о солдате, погибшем под Вязьмой. Это было неважно. Если мама… Нет, все будет хорошо, ее вылечат, а об остальном он подумает потом.
И только когда из квартиры выносили носилки, а он потерянно бежал за ними, Вадим все-таки оглянулся и увидел, что Зиночка, с пылающим лицом и смущенной улыбкой — а что ты мне привез? — возится с чемоданом, пытается открыть. Увидел и не осознал увиденного. Будто яркое расплывчатое пятно на мгновение заслонило от него весь мир и тут же исчезло. Он бросился вниз по лестнице.
Анну Станиславовну отвезли в хорошую больницу, не в «кремлевку», конечно, не дорос он до «кремлевки», но все-таки особую, не для простых смертных. Мама этого не одобрила бы, но она была без сознания. Трое суток без сознания. И не знала, в какой спецбольнице находится, и не могла возмутиться и запротестовать. И врачи были хорошие, вытащили ее, выходили, не пожалели ни дорогих лекарств, ни заграничной аппаратуры… И палата у нее была отдельная, и Вадиму разрешали приходить и сидеть возле ее кровати хоть целый день — с перерывами на процедуры. Он и сидел. Держал ее за руку, слушал дыхание. Она дышала — сначала при помощи разных приспособлений, трубочек и насосов, а потом уже сама. И завотделением сказал, что кризис миновал. Конечно, впереди долгое лечение, никаких волнений, никаких усилий, диета и постельный режим, но самое страшное позади.
Но она не хотела жить. Не хотела есть, не хотела дышать. Она лежала на спине, глядя в потолок равнодушными остановившимися глазами. Казалось, она ничего не помнит. Во всяком случае, Вадим очень на это надеялся. Просто ей все надоело и она очень устала.
Она уже неделю находилась в больнице, как однажды повернулась к Вадиму, посмотрела на него совершенно разумными, страдающими, любящими глазами и прошептала:
— Дай руку.
Вадим с готовностью протянул ей руку, она разжала кулак и положила на его ладонь влажный бумажный комочек.
— Когда я умру… — она не сказала «если», она сказала «когда». — Когда я умру, позвони ему, пусть придет на похороны. Ничего, это можно. Не обижай его, он не виноват. Никто не виноват.
Анна Станиславовна попыталась поднять руку, но не смогла и улыбнулась виновато, словно извиняясь за свою слабость. Вадим понял, наклонился и положил ее руку себе на голову. Она гладила его волосы, перебирала непослушными пальцами. Глубоко вздохнула, собираясь с силами:
— Прости меня. Бедный ты мой… Как же ты один?.. Кто о тебе позаботится?.. Мальчик мой…
Одинокая мелкая слезинка вылилась из ее глаза и поползла по щеке. И пока эта слезинка катилась по лицу, Анна Станиславовна умерла.
Вадим не стал звать врачей, требовать чудодейственных лекарств, реанимации. Мама хотела умереть, и он не смел ей противоречить.
А потом все закружилось, заголосило, заходило вокруг него. Вадим думал, что умерла его мать и это его личное дело. Их ведь всего двое на этом свете. Но оказалось, что многих, многих людей коснулась смерть Анны Станиславовны Глинской.
Едва успели официально констатировать смерть, едва усталый, мрачный завотделением неловко похлопал Вадима по плечу, едва отключили капельницу, как дверь палаты распахнулась.
Вадим увидел знакомые лица. Директриса школы, тетя Нюта, стародавняя мамина подруга, еще из той школы, где мама работала до рождения Вадима (поскольку они были тезками, то тетя Нюта называла маму Анночкой, а мама ее — Нюточкой), и Василиса, школьная уборщица, которую по старинке называли нянечкой и которая, благодаря своему властному характеру, занимала не последнее место в школьной иерархии. Они знали, что делать.
Директриса отвечала на бормотание завотделением хорошо поставленным командирским голосом:
— Не надо никакого вскрытия! Мы против. Какой диагноз? Инфаркт — он и есть инфаркт. Обычное дело. Сперва ларингит, потом тромбофлебит, потом инфаркт. Наши учительские награды. Много нас до пенсии-то доживает?
Нянечка Василиса тихонько оттеснила дюжих медбратьев с каталкой, повздыхала, закрыла маме глаза своими темными узловатыми пальцами, перекрестилась и зашептала слова молитвы. И никто не остановил ее, никто не возмутился. Медбратья отступили, провожаемые воркованием Василисы:
— Идите, ребятки, у вас небось другой работы полно. А я уж сама — и обмою, и обряжу. Мы свое дело знаем.
Тетя Нюта взяла Вадима за руку и вывела из палаты. Несколько метров Вадим потерянно шел за ней. Вдруг очнулся и неуверенно произнес:
— Я… Мне домой надо.
— Не надо тебе домой, — сухо возразила тетя Нюта, и он понял: знает. Знает и не осуждает.
Тетя Нюта отвезла его к себе, в такую же шумную грязноватую коммуналку, в какой когда-то они с мамой были так счастливы. Вадим выпил горячего чаю, его уложили на продавленный диванчик, укрыли шерстяным одеялом, и он неожиданно для себя уснул — под бормотание радиоприемника, под говор соседей на кухне, под крики детей за окном. Уснул с блаженным чувством возвращения — он наконец дома, он убежал, он спасся…
Конечно, он не убежал и не спасся. Он просто спрятался на время. До самых похорон он не возвращался в свою квартиру. Все шло как-то само по себе. Не нужны были ни его деньги, ни его связи. Просто в свое время он оказался в молчаливой напряженной толпе, одушевленной общим горем.
Какое там одиночество у гроба матери, о котором он, в сущности, мечтал с пронзительным самолюбивым отчаянием! Они все шли и шли: учителя и ученики, целыми классами. Вадим вдруг подумал: если он сейчас умрет, кто придет на его похороны? Тетя Нюта да представитель от Госконцерта — все-таки заслуженный артист. Да, может, какая-нибудь истеричка-поклонница.