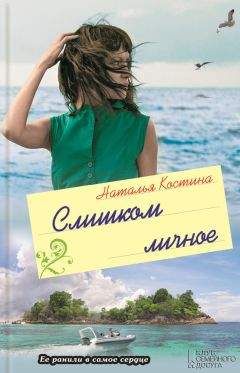Наталия Костина - Слишком личное
Она стояла, влипнув в стену, желая уйти еще глубже, раствориться в ней худым, жилистым, измученным телом, и слезы текли у нее из-под плотно сомкнутых век. Она знала, что не нужно открывать глаза, тогда мучение продлится дольше и все будет болеть так, что она не сможет заснуть. А ей нужно выспаться. Потому что на завтрашний выходной у нее были свои планы – это была ее единственная отдушина, когда она ездила что-то покупать для Мишки. Ей казалось тогда, что все хорошо, да и она сама себе казалась совершенно другой женщиной – у нее, у Риты Погореловой, все в жизни ладно, у нее замечательный муж и гениальный ребенок…
Замечательного Петра Погорелова в последнее время ужасно раздражало то, что жена никак не реагировала на его действия. Сука бесчувственная! Ему хотелось, чтобы она плакала, кричала, валялась у него в ногах, просила прощения… За что она должна была у него просить прощения, он не знал, но был уверен, что это она кругом виновата: и в том, что его выгнали с завода, и в том, что ребенок, его, Петра, вроде бы сын, идиот идиотом – ни футбол с папанькой не посмотрит по телику, ни про спорт, ни за жизнь не поговорит… Вечно сидит в углу с какой-то книжкой, а Ритке все по барабану… И сейчас она только плакала, и то беззвучно, сука, тварь бездушная, проститутка… «Мишка-то не мой сын, точно!» – вдруг подумал он. Топорик для мяса сам собой повернулся в его руках, и лезвие вошло Рите Погореловой в плечо. Она дико закричала и открыла глаза. Глаза были огромные, как у Мишки, и такие же карие, коровьи какие-то глаза.
– Довела, сука гребаная! – Погорелов отбросил топор в угол.
Рита одной рукой зажимала рану на плече, из которой текла кровь, а другой – свой рот.
* * *Война закончилась. На Клавдиного мужа пришла похоронка в сорок третьем, на Дуниного – в сорок четвертом. В сорок пятом, уже после Победы, получили похоронку на Алексея, провоевавшего меньше года. На почерневшую от горя тетку Матрену было жалко смотреть. Клавдия, не ужившаяся со свекровью, переехала с ребенком обратно к отцу с матерью, нравная Наталья была не замужем и к домашним делам неохоча, так что все хозяйство держалось теперь на Арине. Ей шел уже двадцать шестой год – по деревенским меркам совсем перестарок, только и оставалось, что с племянниками тетешкаться да досматривать постаревших приемных родителей. Но с виду Арине никак нельзя было дать более восемнадцати-двадцати лет – и теперь не Клавдия с Натальей казались младшими, а она, Арина, гляделась их меньшей сестрой. Тяжелая работа в поле сделала ее гибкой, как ивовая ветка, а постоянное недоедание – стройной. Лишний кусок она норовила сунуть племяннику, теплое место на печи предназначалось ставшей в одночасье старухой Матрене. И только ей, Арине, никто ничего не предлагал – ни хлеба, ни места на печи, лишь ласковый племянник Федя тянулся к тетке, частенько прибегая к ней в старый коровий закут под лоскутное одеяло.
Страна поднималась из руин. Жить стало лучше, жить стало веселее – так говорили из черного раструба громкоговорителя на столбе перед правлением. И действительно, в ее собственной судьбе вдруг стали происходить некоторые перемены. Началось с того, что в их село, потерявшее значительную часть мужского населения, стали возвращаться уцелевшие воины. Так в ее жизни появился Леонид.
Он приехал к ним вместе с другом-однополчанином, потому что ему некуда было возвращаться. Родное белорусское село, в котором он когда-то родился, было сожжено дотла, и даже место, где оно находилось, уже заросло по пожарищам крапивой и лопухами. Арина привлекла его неброским обликом, сдержанностью, девичьим станом. Он ее – несомненной мужественностью и тем, что из всего женского, жаждущего, смеющегося, бросающего откровенно зовущие взгляды выбрал именно ее – невидную, холодноватую, не спешащую кинуться ему на шею.
То, что происходило между ними, трудно было назвать любовью – она принимала его ухаживания, но хотела присмотреться к этому человеку получше и явно не торопила события. Он же подсознательно выбрал такую же, какой была его мать в уничтоженной белорусской деревне, – немногословную, неяркую, худую, работящую…
По селу уже прошел слух, что Леонид Ногаль хочет сватать приемную дочь Афанасия Сычова, а до самого дяди Афони эта новость почему-то дошла чуть ли не в последнюю очередь. Что ж, принять зятя в семью, да еще такого работящего, мало пьющего, как этот самый Леонид, – дело хорошее…
– Ну, кх-м, здравствуй, что ли, – сунул при встрече Леониду Ногалю свою заскорузлую клешню с полпальцем Афанасий Сычов. – Слыхал, к Аришке нашей клинья подбиваешь, что ль?
Высокий, стройный Леня Ногаль, демобилизованный автомеханик, а теперь заведующий колхозной автомастерской, окинул взглядом будущего тестя и крепко сжал его руку.
– А что, нельзя?
– Да оно-то можно… Слышь, Леонид, нам бы сесть рядком да поговорить ладком…
К встрече с будущим зятем Афанасий готовился – под полой дожидалась своего часа мутная бутыль, заткнутая свернутой жгутом газеткой. Сели в пустой мастерской, которую Ногаль открыл своим ключом. Домовито постелил на столе чистое полотенце, поставил две мятые алюминиевые кружки. Афанасий выставил бутылку, выудил немудрящую закуску – хлеб-соль, несколько степлившихся в кармане огурцов-переростков, картошку в мундире. Леонид извлек откуда-то миску, протер ее ветошкой, плеснул подсолнечного масла, огурцы нарезал вдоль на четыре части, хлеб – аккуратными кусочками. Сердце Афанасия радовалось такой хозяйственности будущего родственника, только где-то внутри точил его червячок: за что Аришке-то такое счастье? Чем заслужила?
Выпили по первой. Афоня заметил, что будущий зять пьет неохотно, больше налегает на картошку с маслом, на хлеб и огурцы.
– Дак что, свататься, что ли, будешь? – спросил он напрямую, когда выпили по третьей. – Девка-то она хорошая, работящая, но… – Афанасий крякнул и полез в кисет за махоркой.
Леонид Ногаль тоже пошарил в кармане, достал пачку «Беломора», спички, выложил на стол.
– Эх, хорош казенный табачок-то. – Афоня вертел головой, выпуская в сгущающийся сумрак автомастерской сизый дым. – И девка наша всем хороша, только…
– Только что?
Несмотря на выпитое, взгляд у Леонида был пристальный, трезвый. Нехороший взгляд. Однако решаться было надо.
– Неужто Аришка-то так сильно к сердцу прикипела? – спросил Афанасий, с сожалением глядя на почти докуренную папиросу. В стальные глаза Ногаля он смотреть почему-то избегал. – Что, другой никакой по селу не нашлось?