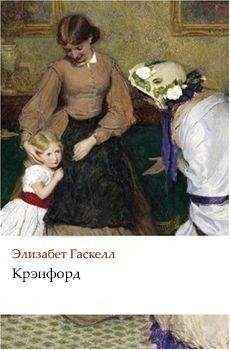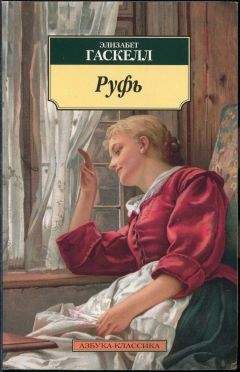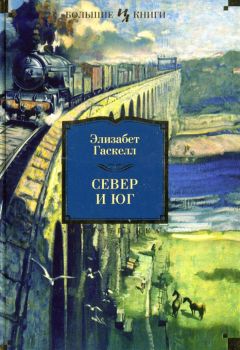Элизабет Гаскелл - Мэри Бартон
Теперь вы можете представить себе, какою жаждой мщения полна была его душа. А всегда ведь находятся люди, которые посвящают себя тому, чтобы устным или печатным словом поддерживать такие чувства в сердцах тружеников, которые знают, как и когда вызвать к жизни страшную силу, чтобы добиться своей цели, никого не щадя.
Итак, пока Мэри шла своим путем, с каждым днем становясь все более бойкой и красивой, отец ее председательствовал на профсоюзных собраниях [16], дружил с рабочими делегатами [17], лелея надежду со временем тоже стать делегатом, примкнул к чартистам [18] и готов был пойти на все ради их дела.
Но теперь времена были хорошие, и его ненависть к хозяевам носила скорее теоретический, нежели практический характер. А практически Бартона больше всего занимала сейчас мысль о том, чтобы отдать Мэри в обучение к портнихе, ибо он никогда – и по многим причинам- не хотел, чтобы она стала фабричной работницей.
Однако должна же была Мэри чем-то заниматься. Поскольку о работе на фабрике, как я уже сказала, не могло быть и речи, оставалось две возможности: пойти в услужение или стать портнихой. Против первого Мэри решительно восстала, хотя чего она добилась бы, несмотря на всю силу своей воли, если бы отец возражал, мне трудно сказать. Он сам не хотел расставаться с дочерью, чье присутствие согревало его дом, чей голос нарушал воцарившееся там безмолвие. Кроме того, при своих идеях и отношении к власть имущим он считал работу домашней прислуги настоящим рабством: с одной стороны, изнеженные люди, не знающие меры в прихотях, а с другой – труженица, не имеющая ни отдыха днем, ни покоя ночью. Был ли он прав в своей безудержной и всеобъемлющей ненависти, судите сами. Зато отказ Мэри идти в услуженье был вызван, по-моему, куда менее серьезными соображениями, чем те, которые руководили ее отцом. Три года независимой жизни (как раз столько лет прошло со смерти ее матери) отучили девушку с кем-либо считаться в распределении своего времени и в выборе подруг; и она вовсе не хотела одеваться так, как ей велит хозяйка, или лишиться дорогой женскому сердцу привилегии – поболтать с веселой соседкой или, проработав день и ночь, все же помочь человеку, попавшему в беду. А кроме того, слова таинственно исчезнувшей тети Эстер оказали на Мэри свое действие, хотя никто об этом не догадывался. Она знала, что хороша собой; рабочие по дороге с фабрики, не стесняясь, говорят прохожим все, что о них думают (что бы это ни было), а потому Мэри довольноскоро стало известно о ее красоте. Но даже если бы слова их были оставлены ею без внимания, всегда нашлись бы молодые люди иного, чем она, звания и положения, готовые отпустить комплимент повстречавшейся им миловидной дочке ткача. Кроме того, всякая шестнадцатилетняя девушка знает о своей красоте, хотя, будь она некрасива, она, возможно, и не подозревала бы этого. Итак, вооруженная сознанием своей прелести, Мэри довольно рано решила, что красота должна помочь ей стать богатой и знатной (чем больше поносил ее отец богатство и знатность, тем больше она их уважала), стать такою, какой, по ее глубокому убеждению, стала пропавшая без вести тетя Эстер. Но если служанке часто приходится выполнять грязную тяжелую работу и те, кто приходят к хозяйке в дом, знают, что это служанка, то ученица портнихи должна быть всегда прилично одета (во всяком случае, так полагала Мэри), ей не приходится пачкать руки и ходить с красным или грязным от работы лицом. Я правдиво рассказала вам о не очень разумных мыслях и чувствах Мэри, но, прежде чем безоговорочно осуждать ее, вспомните о том, какие нелепые фантазии приходят в голову шестнадцатилетним юношам и девушкам любого сословия, живущим в самых разных условиях. Итак, отец и дочь в конце концов пришли к одному решению: Мэри должна стать портнихой. Честолюбивая девушка заставила отца, несмотря на его сопротивление, обойти лучших портних, чтобы узнать, сколько усидчивости и прилежания требуется от его дочери, чтобы ее взяли в ученицы. Но всюду за обучение взималась большая плата. Бедняга, он мог бы догадаться об этом и не тратя целого рабочего дня. Бартон немало бы возмутился, если б узнал, что, сопровождай его Мэри, вопрос мог бы решиться иначе, ибо, при ее красоте, девушку могли бы взять манекенщицей. Попытал он счастья и у портних похуже, но всюду требовались деньги, а денег у него не было. Вечером, понурый и сердитый, он вернулся домой, объявив, что только даром потратил время и что вообще портнихи чересчур много работают и изучать это ремесло нет смысла. Сообразив, что его рассердила неудача, Мэри назавтра сама отправилась на поиски, так как отец не мог терять еще один рабочий день, и к вечеру (поскольку опыт предшествующего дня значительно снизил ее притязания) нанялась ученицей (хотя это не подтверждалось никакими документами или соглашениями) к некоей мисс Симмондс, модистке и портнихе, чья мастерская находилась на приличной улочке, ответвлявшейся от Ардуик-Грин, о чем оповещали золотые буквы по черному полю в раме из пятнистого клена, выставленной в окне приемной; мастериц мисс Симмондс величали «барышнями», и Мэри предстояло работать на нее два года без вознаграждения – она ведь будет учиться, а потом – за обед, чай и небольшое жалованье раз в квартал (потому что так благороднее, чем раз в неделю), совсем небольшое жалованье, которое свелось бы к сущему пустяку, если б разделить его по неделям. Летом Мэри должна была являться к шести и первые два года приносить с собой обед на день; зимой же она могла приходить после завтрака. Домой ее будут отпускать в зависимости от того, сколько работы у мисс Симмондс.
Мэри была довольна тем, как она устроилась; видя это, отец ее, хоть и поворчал, тоже успокоился. Тем не менее Мэри, хорошо изучившая его характер, принялась к нему ластиться и строить такие веселые планы на будущее, что оба легли спать с легким, если не счастливым, сердцем.
ГЛАВА IV
Живи, не зная зависти и зла,
Стремясь остаться чуждым всем грехам,
И, как фиалка, что в тиши цвела,
Верни в свой час смиренно небесам,
Что получил от них когда-то сам.
Эллиот. [19]
Прошел еще год. Казалось, волны времени давно уже смыли все следы пребывания на земле бедной Мэри Бартон. Но муж по-прежнему вспоминал о ней в тиши бессонных ночей, хотя горе его стало более спокойным; да и Мэри порой, очнувшись от крепкого после тяжелого трудового дня сна, но еще не сбросив с себя дремоты, казалось, видела мать, которая, совсем как в былые дни, стояла у ее постели и, прикрыв рукой свечу, с несказанной нежностью смотрела на свое спящее дитя. Мэри протирала глаза и, окончательно проснувшись, понимая, что это был только сон, снова опускала голову на подушку; тем не менее в минуты волнений и трудностей она взывала к матери о помощи и думала: «Если б мама была жива, она помогла бы мне». Мэри забывала при этом, что горю взрослого труднее помочь, чем горю ребенка, даже таким всемогущим средством, как материнская любовь; не сознавала она и того, что и умом и силою духа намного превосходила оплакиваемую ею мать. Тетушка Эстер так и не появлялась после своего таинственного исчезновения, – людям постепенно надоело строить догадки о ее судьбе, и они стали забывать ее. Бартон деятельно участвовал в работе своего союза и продолжал посещать клуб, даже стал ходить туда чаще, поскольку Мэри возвращалась домой в самое неопределенное время, а когда работы бывало очень много, оставалась в мастерской на всю ночь. Ближайшим другом Бартона был по-прежнему Джордж Уилсон, хотя они придерживались разных взглядов. Но их связывала старая дружба, и воспоминания о днях минувших придавали неизъяснимое очарование их встречам. Наш старый знакомец Джем Уилсон из нескладного юнца превратился в сильного, хорошо сложенного молодого человека с неглупым лицом, которое можно было бы назвать даже красивым, если бы оно не было кое-где помечено оспой. Джем работал на большом заводе, принадлежавшем фирме, которая поставляла станки и машины во владения царя и султана. Отец и мать без устали расхваливали Джема, но Мэри Бартон в ответ лишь вскидывала свою хорошенькую головку, прекрасно понимая, что этими похвалами преследуется одна цель – показать ей, какой из Джема выйдет хороший муж, и побудить ее ответить на его любовь, о которой он никогда не осмеливался заговорить и которую выдавали только его красноречивые взгляды.