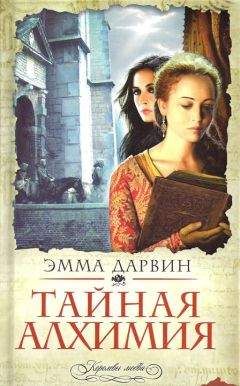Эмма Дарвин - Математика любви
Мы поужинали в гостинице и, когда наступил час вечернего променада, отправились осмотреть Бильбао. На улицы, такое впечатление, вышел весь город, приветствуя соседей, демонстрируя новые наряды, совещаясь с друзьями и сватая дочерей. Улочки старого города под высоким арочным мостом произвели на Люси неизгладимое впечатление, и мне приходилось останавливаться снова и снова, прислонившись к стене, и смотреть, как она доставала альбом и торопливо делала в нем несколько штрихов. Под ее умелыми руками на бумаге оживали очертания стрельчатых готических окон, испещренные морщинами ладони старика, кованая филигранная решетка балкона, платок, повязанный на темноволосой голове девушки. Закончив рисовать, она поднимала голову, отрываясь от бумаги, и, смеясь, возвращалась ко мне. Вот так мы бродили по городу, и наши впечатления нашли отражение и обрели вторую жизнь в альбоме Люси, одно за другим, страница за страницей, и время между ними исчезало, переставая существовать с легким шорохом переворачиваемых листов бумаги. Мы дошли до конца улицы Калле-дель-Перро. – Вот это и есть приютный дом Санта-Агуеда, – сказал я. Люси обвела взглядом высокие серые стены, в которых высоко над землей были прорублены крохотные окошки-бойницы.
– Ты снова собираешься навестить ее?
– Да. Неужели я забыл сказать тебе об этом?
– Мы говорили о других вещах, – с чопорным видом заявила она, но глаза ее смеялись.
– Действительно. Неужели мы просто обречены на подобные разногласия?
– Да, – ответила она. – Мое нетерпение и твоя забота – это как вода и масло. И поэтому очень кстати, что мы с тобой соединяемся так часто. – Видя, что я несколько ошарашен подобным публичным заявлением, она звонко рассмеялась, а потом поинтересовалась: – И как ты намереваешься поступить с Идоей?
Мы шли по улице в тени стен приютного дома, и передо мной вновь возник образ дочери, стоящей в одиночестве, может быть, за этой самой стеной. А потом внезапно, безо всякой видимой причины, я вдруг вспомнил о мальчишке, на которого наткнулись Титус и Нелл, как он прижался спиной к изгороди, когда бежать ему было некуда. И вдруг издалека всплыли воспоминания о моем собственном детстве: дверь, запертая за мною на замок; лицо Пирса, когда он проваливался в беспамятство; мой беспомощный плач, когда я узнал о прибытии почты. Воспоминания эти были смутными и беглыми, подобно рисункам в альбоме Люси, тем не менее они следовали одно за другим в строгом порядке, складываясь в логический вывод: Идоя не должна оставаться в приюте Санта-Агуеда. Я вдруг понял, что по-настоящему отыщу ее только тогда, когда она обретет крышу над головой, заботу и любовь, а не просто христианскую благотворительность.
Люси остановилась в пятне желтого света от уличного фонаря.
– Стивен?
– Прошу прощения. Я раздумывал над тем, как мне следует поступить. Помимо выделения ей содержания и приданого, я имею в виду.
– Идое? Если у тебя появились подобные мысли, ты, насколько я понимаю, не намерен оставлять ее там, где она пребывает сейчас.
– Нет, не намерен, – согласился я и добавил: – Она не захотела взять портрет матери. Она долго смотрела на него, но потом сказала, что ей не разрешат его оставить, поэтому вернула рисунок мне.
– Ох, бедный ребенок! – воскликнула Люси. – Быть может, ты подыщешь приличную женщину в городе, заботам которой ее можно будет поручить?
– Нет! – взорвался я. – Только не это! Ни за что!
Она выглядела озадаченной и даже испуганной. Но потом довольно спокойно сказала:
– Прости меня. Думаю, что понимаю тебя.
Больше она не произнесла ни слова, но я почувствовал, как в ее молчании уходит моя душевная боль, а вместе с ней и мои воспоминания.
При свете фонаря я увидел, как она вздохнула, отчего грудь ее поднялась, и медленно сказала:
– А ты не хотел бы… Ты не думал о том, чтобы взять ее с собою в Керси?
– Но ведь она будет не только со мной. Она будет с нами, поэтому это решение я не могу принять в одиночку.
Люси долго молчала. И хотя она, прищурившись, смотрела куда-то вдаль, мне казалось, что думает она отнюдь не о пейзаже, простирающемся перед нами. Наконец она спросила:
– Какая она, Идоя?
– Смуглая и темноволосая, – ответил я. – И невысокая, как… как ее мать. Очень спокойная, как мне показалось. Но, вероятно, в данных обстоятельствах было бы трудно ожидать от нее чего-то другого. – Я вспомнил Эстефанию. – У нее есть кукла, тряпичная. Идоя сказала, что, когда ей исполнится семь, она должна будет отдать ее детям бедняков.
– Бедняжка! – воскликнула Люси. – Мы не можем оставить ее там, одну!
– Ты имеешь в виду, что…
– Да, мы должны спасти ее, дать ей кров и дом, в котором у нее не отнимут то, что она любит.
Я улыбаюсь, чтобы скрыть облегчение.
– Любовь моя, ты уверена?
– Да, – твердо ответила она, но продолжила уже не столь уверенно: – Стивен, твоя любовь придает мне сил и дарит такое счастье, что мне нелегко признавать, что когда-то она предназначалась другой женщине.
– Я понимаю тебя, – медленно сказал я. – И мне бы хотелось, чтобы ты забыла об этом.
– Ты так долго жил с этой любовью в сердце. А теперь ее воплощение мы будем видеть перед собой каждый день.
Перед моим взором возник образ Идои, рассматривающей портрет своей матери, и я не мог отрицать очевидного. Люси вдруг улыбнулась.
– Но и тебе иногда будет нелегко жить со мной во плоти.
– Напротив… – Я чувствовал себя обязанным запротестовать.
– Даже твое рыцарское поведение, Стивен, не помешает искать во мне добродетели, обладать которыми полагается супруге. – Прежде чем я успел возразить, она продолжила: – И Идоя – не идеальный образ, а маленькая девочка, и я надеюсь, что она будет столь же непослушной, как и остальные дети. То есть доставит тебе не меньше хлопот, чем любой другой ребенок на ее месте, как только она окажется там, где ее подлинная натура сможет обрести свое выражение.
Эти слова заставили меня улыбнуться, и я взял ее под руку.
– Ну что же, тогда, быть может, ты пойдешь со мной завтра в приют? – спросил я и добавил: – В качестве моей сестры, нареченной или кого угодно, по твоему выбору. Мы найдем Идою вместе, а потом отвезем ее домой, в Керси.
Я проплакала почти всю дорогу до дома Пенни. Слезы ручьем текли у меня по лицу, и вскоре я перестала скрывать их, хотя мне и удалось не хлюпать носом слишком громко. Я села на заднее сиденье, чтобы побыть с Сесилом, как я объяснила Пенни, и она не стала возражать. Сесил прижался ко мне, и мне приходилось все время отворачиваться, чтобы слезы не капали на него. Но чувствовать его у себя под боком было приятно, несмотря на гипс, все еще украшавший его руку. У меня появилось чувство, что есть кто-то – маленький, теплый и настоящий, – кто не даст мне раствориться в небытии. Мы ехали по тем же улочкам и дорогам, по которым я ездила с Тео. Над головой у нас пронзительно кричали стрижи, в воздухе чувствовалась прохлада, чего давно уже не случалось, и горьковатый дым сожженной соломы.