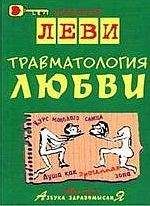Энцо Бьяджи - Причуды любви
Финны по натуре склонны к меланхолии, их музыка довольно заунывна, а в рассказах о немудреном крестьянском быте любовь неизменно соседствует со смертью и люди вступают в вечное единоборство с духом зла. Завершая это короткое кругосветное путешествие, я хотел бы снова поставить вопрос: что же такое любовь? Итальянский либреттист Габриэле Россетти как-то написал по этому поводу не слишком талантливое четверостишие, однако не могу с ним не согласиться:
Не спрашивай меня, зачем мы любим
И в пламени любовном сердце губим.
Любовь сулит отраду и напасти,
Но объяснить ее не в нашей власти.
Однажды писатель Сальватор Готта встретил в миланской галерее восьмидесятилетнего композитора Умберто Джордано, автора знаменитой оперы «Андре Шенье»; старец плотоядным взглядом провожал юную девицу.
— Ах, Умберто, в твои-то годы! — укоризненно покачал головой Готта.
— Этот порок времени неподвластен, — отозвался прославленный музыкант.
Борис Пастернак и Ольга Ивинская
Не люблю не падавших…
Наконец-то в Советском Союзе можно прочесть «Доктора Живаго»! Роман опубликован в «Новом мире», литературном журнале с миллионным тиражом. Главный редактор Сергей Залыгин ответил на мой вопрос:
— Нет, не могу сказать, что я хорошо знал Бориса Леонидовича. Мы не раз встречались в Переделкино, а потом я пришел на похороны — проститься.
Он был очень независим и никогда не шел на компромиссы, из-за чего и нажил себе немало врагов.
Конечно, настоящей литературе в той атмосфере приходилось нелегко, но все же история с «Доктором Живаго» — это какое-то недоразумение. В романе нет ничего такого, что оправдывало бы злобную кампанию против Пастернака. «Доктор Живаго» «не был направлен против режима. Публиковать рукопись запретил неумный цензор, считавший себя патриотом. Ведь сам Хрущев признавал, что стоит выбросить слов триста, и роман можно было бы печатать. Однако этот запрет определил всю дальнейшую судьбу Пастернака, который, по словам летописца эпохи Ильи Эренбурга, «жил только в себе». Осип Мандельштам предупреждал его: «Учтите, они вас не усыновят».
Пастернак в полной изоляции сумел остаться верным себе и своему искусству, похожему «на шум травы».
Виктор Шкловский говорил о том, что его слава подземна.
Борис Пастернак не стал, подобно Маяковскому и другим, «инженером человеческих душ», хоть и не всегда проявлял чудеса храбрости — к примеру, когда Сталин говорил с ним по телефону. И все равно он не сделался орудием партии, как «певец Октября», впоследствии покончивший жизнь самоубийством. «Не понимаю его пропагандистского рвения, — говорил Пастернак о Маяковском, — этого принудительного самоотождествления с общественным сознанием, этой мании коллективизма и подчинения сиюминутным требованиям». Он пытался как-то объяснить отчаянный поступок друга: «Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого что осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие».
А когда «культ личности» перешел с Владимира Ильича Ульянова (Ленина) на Иосифа Джугашвили (Сталина), Борис Пастернак заметил: «Один дядя сменил другого дядю».
Пастернак нашел себе прибежище в духовном одиночестве, вдали от шумных манифестаций. «Он даже не походил на человека, казался ароматом, лучом, шелестом, — писал Евгений Евтушенко. — Но кто в нашем бурном мире замечает шелест?»
Поэт убежден, что власти не могут изменить ход истории, но он чувствует себя выключенным из своего времени, в котором нет места отдельной личности, идеалам. Он понимает, что его творчество доступно немногим, небольшому числу интеллигентов, евреев, как он, а в целом только вдумчивому читателю.
Конечно, ему хочется широкого и вполне заслуженного признания; он разделяет мнение своего друга Марины Цветаевой, в которую когда-то был влюблен («Если душа родилась крылатой — что ей хоромы и что ей хаты!»): разве рабочего интересует заработок, который ему заплатят после смерти?
Творения автора, убежден Пастернак, должны найти отклик еще при его жизни, ведь искусство живет в других.
Он знает, что история Юрия Живаго, воплощение его самого, наверно, не дойдет до современников. Опубликована его переписка с двоюродной сестрой Ольгой Фрейденберг, подругой детских игр, которой он всегда поверял свои сокровенные мысли. В этих строках он откровенно говорит о своем счастье и о своих горестях: «Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое свое письмо им…»
Незадолго до кончины он пишет поэтессе Елене Благининой, что счастлив от сознания выполненной миссии. «Я не знаю, что меня ждет, — вероятно, время от времени какие-то друг за другом следующие неожиданности будут в том или другом виде отзываться на мне, но сколько бы их ни было и как бы ни были тяжелы или даже, может быть, ужасны, они никогда не перевесят радости, которой никакая вынужденная моя двойственность не скроет, что по слепой игре судьбы мне посчастливилось высказаться полностью…»
Никогда не предававшая его кузина, с которой он бегал по одесскому берегу и подолгу вел ночные разговоры в детской, утешает поэта: «Твоя книга выше сужденья… То, что дышит из нее — огромно».
В 1957 году издательство Фельтринелли напечатало сначала в Италии, а потом и во всем мире роман «Доктор Живаго» — драматическую историю молодого Юрия, разрывающегося между женой и красавицей Ларой, Ларисой Федоровной, у которой «был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой».
На фоне этой отчаянной страсти предстают беды русского народа в безумную, святую и жестокую пору революционных битв и иллюзий.
Прообразом Лары послужила Ольга Ивинская. Когда она встретилась с Пастернаком, ей было немногим более тридцати, а ему почти шестьдесят.
— Он был, — вспоминает Ольга, — строен, необыкновенно моложав, у него была красивая крепкая шея и глухой проникновенный голос.
Сам Пастернак считал себя некрасивым, даже называл «пугалом». Продолговатое лицо, неровные зубы (потом он вставил новые), губы «как у негра». Однако же, добавлял он, «от меня плакали многие женщины».
Он был женат дважды. Первую жену, Евгению, и сына он оставил ради Зинаиды, бывшей замужем за большим его другом, известным пианистом Генрихом Нейгаузом, причем на дружбу Пастернака и Нейгауза это не повлияло. Счастья с Зинаидой он не нашел и не скрывал этого. Она рано постарела, характер у нее был нелегкий, она совсем не понимала его противоречий, метаний, неуверенности в себе. «Она ведь из семьи жандармского полковника», — объяснял Пастернак.