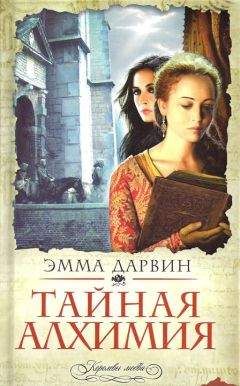Эмма Дарвин - Математика любви
– Я готова поговорить с вами об этом. И разумеется, мы надеемся, вы сочтете, что вашей дочери обеспечен надлежащий уход, – ответила настоятельница. – Если хотите, я распоряжусь, чтобы ее привели сюда, и вы увидите ее своими глазами.
Я никак не предполагал, что столь обыденное и обычное предложение выбьет меня из колеи.
– Да. Я полагаю, что должен увидеться с ней, если это возможно.
– Разумеется, – сказала она и потянулась к маленькому колокольчику, стоящему на письменном столе.
Пока мы ждали, когда кто-нибудь придет на зов, я вполуха слушал ее пространный рассказ о системе организации пожертвований и патронажа, благодаря которой и стало возможным существование приютного дома. При этом я не без некоторого внутреннего трепета ожидал, что вот через несколько минут ребенок Каталины – и мой ребенок тоже – предстанет передо мной, переступив порог и войдя в эту комнату. В то же время какая-то часть моей души и сердца разрывалась от тоски и страха, предчувствуя, что я навсегда потерял Люси.
Мать Августина разглагольствовала о критериях отбора и приема, о том, какое образование получают девочки в соответствии с христианской – под которой она имела в виду, конечно же, католическую – религией и каким навыкам ведения домашнего хозяйства их обучают.
– У нас здесь сейчас примерно две сотни девочек, но мы могли бы принять еще половину, если бы только это было возможно, – говорила она, глядя в лежащий на столе гроссбух. – Давайте посмотрим. Идоя Маура родилась двадцать третьего июня.
Я так удивился, что открыто заявил:
– По моим сведениям, она родилась шестнадцатого июня.
– Это день, в который состоялись роды, да. Мы записываем эту дату тоже, если она нам известна. Но здесь, в Санта-Агуеде, мы отсчитываем начало жизни своих воспитанниц с того момента, как они попали к нам. Многие из них – подкидыши, а что касается остальных… В общем, мы полагаем, что каждый ребенок – это нечто вроде чистого листа, и уповаем на то, что Господь в неизреченной милости своей начертает на нем веру и послушание. Они покидают нас в возрасте двенадцати лет, и можете быть уверены, что девочки попадают в хорошие, респектабельные семейства или же становятся послушницами в других домах нашего ордена. Ваша дочь научится всему, что ей следует знать для подобной жизни. У некоторых из них, разумеется, есть некоторое приданое, так что они остаются с нами до тех пор, пока не выйдут замуж или пока не решат посвятить себя служению Богу.
С таким же успехом она могла бы объяснять мне оборот поголовья скота на крупной и хорошо управляемой животноводческой ферме, но тем не менее речь шла, помимо всего прочего, о судьбе моей дочери. В ушах у меня внезапно зазвучал голос миссис Барклай, так похожий на голос Люси и в то же время столь разительно от него отличающийся: «Я хочу, чтобы он был в безопасности, но при этом свободно изучал окружающий мир. Вот чего я хочу для него в первую очередь».
На мгновение я лишился дара речи, настолько ошеломляющим стало для меня открытие, что я мог собственными руками уничтожить право назвать Люси своей, но необходимость соответствовать сугубо деловой обстановке и тону матери Августины несколько отрезвила меня.
– В самом деле, – сказал я. – Я хотел бы обсудить с вами возможность оказания помощи именно таким образом. Приданое, конечно… А пока…
Она поднялась из-за стола.
– А пока вам, быть может, захочется осмотреть наш приютный дом? Тогда, надеюсь, вы сможете получить более ясное представление о том, для каких целей используются пожертвования. – Дверь открылась, и на пороге появилась молоденькая послушница. – О, вы нам не понадобитесь, сестра, – сказала мать Августина. – Благодарю вас. – Она обернулась ко мне. – Я не задержу вас. Уверена, у вас и так много дел.
Я испытал некоторое облегчение при мысли, что Идоя не войдет сейчас в комнату. Но при этом понял и то, что будет неправильно, если мать Августина попытается отговорить меня уйти, не повидавшись с ней. Если она, взявшая на себя роль матери по отношению к моей дочери, не понимала, насколько важно, чтобы Идоя узнала о существовании родных матери и отца, о том, что они заботятся о ней, то я сам должен возложить на себя эту обязанность.
– Я все-таки хотел бы увидеться с дочерью.
– Разумеется. – Она бросила взгляд на большие часы, висевшие на стене напротив письменного стола. – Наши воспитанницы сейчас обедают. Прошу вас следовать за мной, майор Фэрхерст.
Меня не особенно интересовали обитатели приютного дома, если не считать Идои, и та часть моего мозга, которая не была занята размышлениями о ней, все еще пребывала в страхе и оцепенении из-за Люси. Но у меня не было желания показаться нелюбезным, и даже если такая экскурсия негативно скажется на моих чувствах, я, по крайней мере, получу некоторое представление об условиях, в которых воспитывается моя дочь. Мы проходили мимо детских комнат, спален и классных комнат для шитья. Все в них сверкало, нигде не было ни пылинки, а кровати, столы и стулья были расставлены строго по линейке, так что и самому строгому армейскому сержанту не к чему было бы придраться. Даже цветы и свечи, стоявшие перед бесчисленными образами святых, казалось, прошли самый строгий отбор, прежде чем были допущены к выполнению обетов своих дарителей. Здесь был установлен строгий распорядок и, как я понял из таблицы, прикрепленной к стене, каждая минута была расписана. В той части часовни, которая была доступна моему взору, царила простая и спартанская обстановка, но пламя свечей отражалось в позолоте, украшавшей придел.
– Ваша дочь, естественно, воспитывается как истинная дочь церкви, и в следующем году ей предстоит первое причастие. Насколько я понимаю, вы не исповедуете нашу веру, – обронила мать Августина, преклонив колена перед невидимым алтарем и осенив себя крестным знамением.
– Нет.
– Господь милосерден, и на него мы уповаем.
У меня слегка кружилась голова в насыщенном запахом благовоний и ладана воздухе, но я не чувствовал особой благодарности к этому католическому Господу, по крайней мере, такому, каким его описывала Каталина. «Хотя мне и следовало бы питать это чувство хотя бы ради нее», – подумал я. Я должен был быть благодарен ему за все, что утешало ее в горе, вообразить которое я был не в силах.
В таком душевном расстройстве я последовал за матерью Августиной в трапезную. Здесь за казавшимися бесконечными рядами столов и лавок в молчании и тишине вкушали пищу сто восемьдесят одетых в серое девочек, в то время как монахиня, стоявшая на кафедре, что-то читала им из небольшой ветхой книги. Перед каждой стояла миска с тушеным мясом и рисом, чашка разбавленного водой вина и ложка. По левую сторону лежал кусочек серого хлеба. Закончив есть, девочки опускали ложку в пустую миску и складывали руки на коленях, прикрытых фартуком, подобно солдатам, стоящим по команде «вольно». «Кто же из них, – подумал я, глядя на вереницу темноволосых головок с белыми накидками, – ребенок Каталины?»