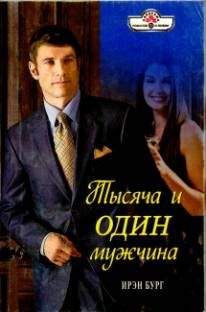Маргарет Пембертон - Богиня
– Я никуда не пойду.
Сейчас доктор столкнулся с железной волей Валентины, скрытой под мягкой женственностью.
– Но, дорогая леди, нам необходимо сделать анализы, поскольку к нему не вернулось сознание.
– Я остаюсь. Неужели где-нибудь для меня не найдется комната, пусть даже бельевая кладовка. Я шагу отсюда не сделаю, пока не узнаю, что с сыном.
В этот момент она была так же великолепна, как на экране. Потрясающая. Ослепительная. Тигрица, оберегающая свое дитя.
– Немного дальше по коридору есть маленькая кладовая, правда, без окон, но я распоряжусь, чтобы там поставили кровать.
– Спасибо.
Доктор, мрачно нахмурив брови, занялся Александром. Чем дольше мальчик не выйдет из комы, тем меньше надежд на то, что выздоровление пройдет без осложнений. Он поднял сначала одно, потом другое веко Александра, посветил в глаза крошечным фонариком. Зрачки не сокращались.
– Проверяйте рефлексы на свет каждые полчаса в течение всей ночи, – велел он старшей сестре, – и при любом изменении немедленно докладывайте мне.
Только когда в больнице стало тихо, и огни потушили, оставив лишь ночники, сиделка уговорила Валентину немного отдохнуть. Она неохотно поднялась. Лучше бы ей быть здесь, когда сын придет в себя. Она хотела видеть радостный взгляд, его знакомую улыбку, он ведь узнает мать.
Валентина лежала на узкой кровати и прислушивалась к шагам старшей медсестры, каждые полчаса входившей к Александру. Ждала, что вот-вот придут и скажут, что кризис миновал. Что Александр открыл глаза и спрашивает о ней.
Когда она проснулась, ничего не изменилось. Валентина спала в комбинации и сейчас, наспех одевшись, побежала в палату Александра. Рядом с ним сидела сестра. Лицо сына было таким же смертельно-бледным и застывшим, как накануне.
– О Боже, – пробормотала Валентина.
Она провела неподвижно несколько часов. Два доктора вошли в палату, обследовали Александра и о чем-то посовещались между собой с мрачными лицами.
– Что случилось? Почему он… – охнула Валентина, изнемогая от страха и усталости.
– Вероятно, от удара образовалась гематома, которая давит на мозг, – мягко ответил доктор. – Необходимо подготовить Александра к операции. Нужно удалить гематому, чтобы снять давление.
Валентина сидела в коридоре на маленьком стульчике. Здесь, в Новом Орлеане, никто не мог ей ни помочь, ни хотя бы утешить. Лейла далеко, в Лос-Анджелесе, а Саттон в Лондоне. У нее никого не осталось. Она была такой же бесконечно одинокой, как в детстве.
Двери распахнулись, и двое санитаров вывезли на каталке Александра. Валентина немедленно вскочила и хотела коснуться лица сына, но медсестра осторожно перехватила ее руку. Каталку подтолкнули к операционной. Валентина снова села и приготовилась к долгому ожиданию.
Прошло три часа, прежде чем вновь послышался шорох шин. Валентину не допустили в палату. Доктор увел ее, и она успела увидеть только, как изо рта сына торчит что-то черное и блестящее.
– Зачем эта трубка у него во рту?
– Она не дает трахее закрыться. Скоро она не понадобится.
– Как прошла операция?
– В точности как намечалось. Давление на мозг устранено, и когда действие наркоза кончится, мы ожидаем улучшения. Остается только ждать.
Никогда в жизни Валентина не думала, что ожидание может быть настолько мучительным. Она не шевелилась и не спускала глаз с часов, висевших на стене напротив. Наконец старшая медсестра вышла из палаты и тихо сказала:
– Вы можете ненадолго войти и взглянуть на него. Скорее всего никаких изменений в его состоянии не произойдет до самого утра. Вам не мешает немного отдохнуть.
Валентина стояла у кровати. Уродливую штуковину вынули изо рта Александра. Он лежал на боку, а рядом, на стуле, который раньше занимала Валентина, сидела сестра. Валентина впервые видела сына таким неподвижным и молчаливым. Он всегда был энергичным, жизнерадостным, загорелым и взлохмаченным. Теперь волос не видно – вероятно, их сбрили. Голова перебинтована, и трубка зловеще змеится из-под простыни к бутылке на полу.
Валентина легко коснулась руки сына и вышла. Она ничего не может сделать для него – только быть рядом.
На следующий день ей позволили сидеть подле него и держать его за руку. Валентина больше не задавала вопросов при виде постоянно сменяющихся докторов, проводивших один осмотр за другим. В середине четвертого дня сестра, проверявшая пульс Александра, на миг застыла и выскочила из палаты. Тут же появились врачи, и Валентину выставили в коридор.
– В чем дело? Что случилось? – допытывалась она. Но двери закрылись у нее перед носом, и Валентина, подавив рыдания, опустилась на все тот же стул.
Первым с ней заговорил хирург, оперировавший Александра.
– Мне очень жаль, миссис Хайретис, но состояние вашего сына резко ухудшилось, и вам лучше сообщить обо всем его отцу.
Валентина тупо уставилась на него. Хирург, привыкший к подобного рода потрясениям, терпеливо повторил:
– Отец ребенка. Ваш муж. Думаю, необходимо его уведомить.
Валентина непонимающе покачала головой.
– Мой муж умер.
Хирург наконец вспомнил. Ее мужем был Паулос Хайретис, греческий пианист, утонувший в бурю. Бедняжка уже перенесла одну трагедию, и теперь другая может в любую минуту обрушиться на нее.
– В таком случае пусть приедут ваши родные, – сочувственно посоветовал он.
В широко раскрытых глазах Валентины плеснулся ужас.
– Вы хотите сказать, что мой сын умирает?
– Нет. Конечно, нет. Мы не должны терять надежду. Но если у него есть близкие родственники, необходимо объяснить им, что состояние мальчика крайне тяжелое.
– Нет, – прошептала Валентина, сжимаясь на глазах, так что помятый костюм из голубого полотна, казалось, вмиг обвис на ней. – У нас никого нет.
– Ясно. – Хирург подошел ближе и помог ей подняться. – Вы можете посидеть с ним.
Он открыл дверь, и Валентина замерла на пороге, не сводя глаз с маленькой жалкой фигурки на постели.
– Мистер Видал Ракоши, – срывающимся голосом пробормотала она. – Пожалуйста, позвоните мистеру Видалу Ракоши.
Она метнулась к постели, сжала безжизненную руку сына и разрыдалась.
Всю ночь она не отходила от него, мысленно требуя, приказывая, умоляя открыть глаза, сказать хотя бы слово. Когда первые серые лучи пробились сквозь щели в жалюзи, Валентина начала говорить с сыном так, словно он был в сознании, напоминая о счастливых днях на Крите, о прогулках у подножия гор, где они собирали цветы, о музыке Паулоса, солнце и песке.