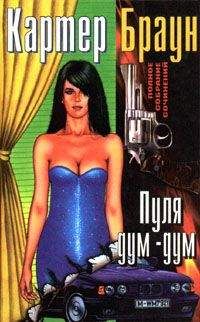Анна Михальская - Foxy. Год лисицы
Год назад он стоял на ступенях лестницы в институте, только что отчитав лекцию, еще разгоряченный всеобщим вниманием. Алиса Деготь – тогда еще безымянная студентка, одна из многих – поднималась снизу, протягивая зачетку. Едва увидев его отстраняющий жест, она размахнулась – и вот уже щека горит, и он растерянно смотрит в прищуренные глаза, мечущие зеленые искры. Не красавица, – оценивает он машинально, – но как хороша! Юное создание ступенькой ниже разражается слезами и, прижав к груди зачетку, сбегает по лестнице, рискуя сломать высоченные шпильки или (и) ноги в ботфортах до середины бедра, выскакивает на мороз как есть, в черном мини с декольте до талии. Хлопает тяжелая дверь. Ну и, конечно, он устремляется следом. Безошибочный трюк. Работа умелой укротительницы. И вот погоня за хищницей-жертвой, и она поймана у порога: недалеко убежала; вот плачет у него на груди, моля о прощении, и слезы мешаются с льстивым лепетом, вот они снова в фойе, на плечи накинута невесомая шелковисто-блестящая шубка, и тут рассказ о жестокости матери, предательстве отца, горечи попранной добродетели…
«Она опасна, и нужно что-то придумать. Совершенно необходимо. Это must, как говорят мои женщины. Ну, утро вечера мудренее…»
Закрыв глаза, он видит загорелые ягодицы, перечеркнутые черным фломастером витиеватого автографа, бесконечно соблазнительный изгиб спины – позвоночник покоится в темной ложбинке между выпуклыми тяжами мышц под атласной смуглой кожей, шелк белокурых волос притягивает взгляд и пальцы – глядеть и гладить, гладить и любоваться… Губы… Глаза…
Нежное, теплое, сильное, гибкое проникло под одеяло, распласталось на груди, обвилось вокруг горла. Затихло, пульсируя толчками теплой крови и рокотом утробного наслаждения… Абиссинская кошка, мурлыкая, засыпала…
* * *– Э-а… м-м… Ну, привет, это я, ага? Узнал? Сашка, старичок, не узнаешь, что ли? Ну, я это, привет, ага? – Это был Огнев. Митя Огнев. Разбудил, гад. И Александр Мергень, прижимая ухом к плечу трубку, поданную женой, нащупал халат. Накинул. Прошел по коридору. Подошел к окну кухни. Был уже день, безветренный и серый. К утру снег размяк, асфальт потемнел, и переулок распластался внизу серо-черной мертвой вороной. Влажно золотился над ним купол храма.
Отзвучали первые приветствия, неловкие после многолетнего перерыва, и Митя приступил к делу.
– Слушай, старичок, у меня просьба. Ну, такая… Не знаю, как ты посмотришь… В общем, надо со мной в музей сходить. Сходи, а? Да нет, ну ты не то… Не это… Ну, не так понял!
Оба с облегчением рассмеялись.
– Нет, тут все просто, понимаешь? Тут, понимаешь, у меня группа коллег… Работаю с ними по волкам в Костромской губернии… Нет, москвичи, наши, институтские… Вот мы сейчас в городе, так я подумал… Ну, помнишь, нас в школе Адин муж водил? Иконы показывал, по Флоренскому… Обратную перспективу там и прочее, ну, тебе лучше знать. Я-то подзабыл, сколько уж лет тому… А ты специалист. Сходи с нами, а? Да, лучше в Третьяковку, чтоб все точно было, как тогда! Давай?
«Так, – размышлял Мергень, пытаясь по сбивчивой речи исследователя волков понять, что же тому на самом деле нужно. – Где мотив? И как от этой докуки половчей отбояриться? Что это у Огнева за коллеги? Скорее всего, та молодая супружеская чета, с которой он вот уж четвертый год живет на Костромской биостанции и тропит волков. Среди одноклассников бродили слухи о жизни втроем в глуши костромских лесов и болот, жизни, в которой Митя играет роль третьего, но не вовсе лишнего, а научного руководителя, мэтра, безнадежно, но вовсе не платонически влюбленного в жену своего бывшего аспиранта. Слухи добрели и до Саши. Бедная Лиза… Но кто ее знает… Может, давно махнула рукой. Может, живет другим… Или с другим…»
Огнев продолжал уговоры, а Мергень вспоминал Лизу… Лизу двадцать лет назад. Свою Лизу…
Вот тут и пришло решение. Изящное, простое и безошибочное, как Алисин трюк на лестнице. Бог послал этого Огнева. Нет, ну как же все складывается!
– Yes! – вскричал Саша неожиданно для самого себя. – Согласен!! Пойдем! Пойдемте!!! Завтра, в полдень, в фойе Третьяковки. Корпус, где иконы. Найдете. Билеты не берите, всех проведу. Все. До завтра. Давай. Ну, давай!
Через минуту из ванной донесся его баритон. «Смейся, паяц, над несчастной судьбой!» – пел Александр Мергень. – Смейся! Отчего теперь не посмеяться, в самом деле!
Новое утро настало – точно такое, как вчерашнее. Немного слякоти, немного снега. Чуть-чуть тоски в самом начале… Зато ближе к полудню разветрило. Что-то вроде солнца показалось над храмом и выбелило темную позолоту купола.
У входа в Третьяковку ждали трое: молодая пара – статные, в одинаковых сапогах, штанах и куртках, издали неразличимые, – и рядом Митя – крепкий, коренастый, чуть ближе к той из двух фигур, у которой Мергень разглядел, подходя, толстую каштановую косу. Чуть ближе, чем следовало бы, – подумалось ему.
– Добрый день, – церемонно поклонился он, подходя. – Митя! Сколько лет! И вы, друзья мои…
Митя пробормотал какие-то имена, но Саша не стал переспрашивать.
– …Позвольте представить вам, – продолжил он после обязательного «очень приятно», – позвольте вам представить мою лучшую студентку, будущего журналиста, человека с тонким художественным вкусом и легким пером, очаровательную девушку, завороженную тайнами природы, большую почитательницу твоих работ о волках, Митя… да, все прочла… ну, почти все! – позвольте, друзья, представить вам… Алису!
Плавным движением руки он выдвинул вперед ничуть не смутившуюся Деготь. Она кивнула опешившим от его красноречия жителям костромских дебрей – чуть свысока. «И как это ей удается при таком росте?» – подумал Саша. Женщина-девочка, миниатюрная и тонкая, словно горностаюшка или ласка, кивнула еще раз, уже глядя прямо в глаза Мите.
Ф-ф-фу, – выдохнул ее покровитель. Про себя, конечно. План начинал осуществляться. Инстинкты Деготь были на руку. Без ошибки в любых обстоятельствах определять главного мужчину – того, из которого можно что-то извлечь, – и работать, работать… Не важно, пригодится или не очень, не важно, что за мужчина, – помимо извлекаемого блага и самого флирта, Алису мало что интересовало… Ну, и что тут плохого?
Флирт разгорался, напряжение чувств росло ощутимо, словно в электрическом поле, вокруг с треском разлетались веселые искры.
У «Преображения Господня» Феофана Грека Мергень понял, что спасен. Привычно поднял он глаза к иконе – и замолк. Образ сиял светом неземного накала, и слова об обратной перспективе так и не прозвучали. Саша отвернулся, ослепленный. Не для него, нет, не для него эти горние выси. Эти дали. Этот разреженный воздух правды. Эта простота линий жизни, земной и вечной. Эта прямота взгляда.