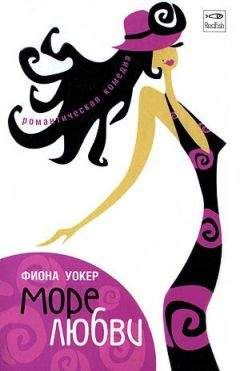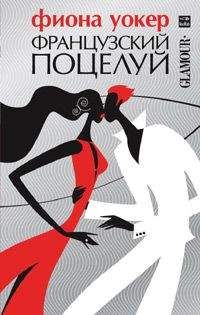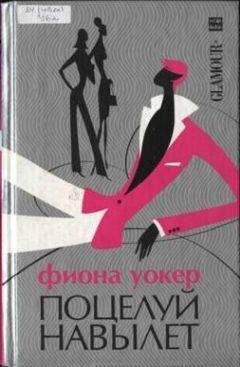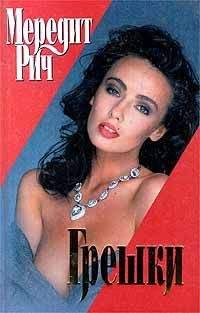Фиона Уокер - Правила счастья
Он снова сел на диван и, взяв в руки папку, стал перебирать страницы.
– Если бы мой старик показал мне тогда эту папку, думаю, я швырнул бы ее ему в лицо и расхохотался, честно тебе говорю. Мне было насрать на все, кроме фотографии. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, он передал мне медальон с прядью волос – тот самый, с которым меня нашли. Он сказал, что это прядь волос моей ирландской бабушки. Он тогда был уже очень болен, почти не вылезал из больниц. Думаю, он боялся, что после его смерти мать мне не отдаст его. Это был золотой медальон, очень красивый, с гравировкой. Он взял с меня клятву, что я буду хранить его всю жизнь, как зеницу ока. Я поклялся и в тот же день продал его. Можешь себе представить? Я получил за него двести баксов.
– Но ты ведь сохранил прядь волос.
– Да просто парень, которому я продал медальон, волосы хотел выбросить, – Джей коснулся волчьего зуба. – Мне пришло в голову: вдруг они принесут мне удачу, если я сохраню их. Пошел и там же у уличного торговца купил этот клык. Мне казалось, с ним я выгляжу круто. Знаешь, что странно? Я много вещей потерял за эти годы: камеры, часы, кольца и целые чемоданы. Иногда я оказывался в чужой стране, не имея ничего, кроме штанов, которые на мне были. Когда ты летишь на фронт, у тебя нет возможности воспользоваться рейсом «Пан Американ» и оставить вещи в отеле. Но вот эта пятидесятицентовая безделушка ни разу никуда не запропастилась.
Он взял фотографию, на которой отец держал его на коленях и смотрел на него с обожанием.
– Он был бы еще жив, если б не я. Его печень отказала, когда ему было пятьдесят два. Я никогда не забуду его желтого лица. Из больницы его выписали, потому что он не прекращал пить: он не подпадал под действие медицинской страховки. Он сидел дома, смотрел сутками телевизор – как он обожал всех этих звезд – и читал про них всякую чушь в желтых газетках. Он пил и допился до смерти.
– Но ты же сказал, что у него случился нервный срыв. После того несчастного случая на работе. Ты не несешь за это никакой ответственности.
Джей посмотрел на нее глазами, полными стыда и муки.
– Джуно, он мечтал о сыне, которым сможет гордиться. Нет, он вовсе не хотел, чтобы я был примерным отличником, хорошим спортсменом, всегда мог постоять за себя и все такое. Он просто хотел, чтобы я был настоящим мужчиной. Человеком. А не маленьким скрытным злобным подонком.
– Но ты ведь добился настоящего успеха! Эти фотографии – их знают во всем мире!
– Ты не представляешь, Джуно, каким путем я шел к этому. Какую цену заплатил за право делать эти снимки.
– Ну, так расскажи мне.
– Ты хочешь меня возненавидеть?
– Нет.
– Но тебе придется, если я расскажу.
– Испытай меня. Он покачал головой:
– Я никому никогда не рассказывал об этом. Я отсек эту часть моей жизни, как раковую опухоль, Джуно.
– Прошу тебя, Джей, расскажи, – умоляла она. Он потерся подбородком о плечо, наморщил лоб. Рассказывая, он ни разу не взглянул на нее. Он говорил быстро, отрывисто, без выражения.
– Я уехал из Нью-Йорка без всяких сожалений в день похорон отца. Я собрал всю свою фотоаппаратуру и стал пробираться на Западное побережье. Для этого потребовалось несколько недель. Раньше я никогда не выезжал за пределы штата. Но у меня все было спланировано. Когда я приехал в Лос-Анджелес, я купил скутер и решил стать папарацци. У меня было достаточно денег, чтобы снять комнату на несколько недель, и я стал осваивать ремесло. Я был ужасно агрессивен в ту пору. Другие папарацци смеялись надо мной: тощий дикий пацан, который болтается один в мужском взрослом мире. У меня не было ни знакомых, ни агентов, ни комиссионных. Они подтрунивали надо мной, пропускали вперед. А звезды охотно улыбались мне: ведь я в их глазах был всего лишь ребенком. Но я-то всех ненавидел. Меня не волновало, что мои снимки причиняют людям боль. Я готов был ради этих фотографий подкупать, обманывать, распихивать. Очень скоро я стал одним из лучших. К девятнадцати годам мои фотографии разлетались по разным странам, в которых сам я никогда не бывал. – Так ты был папарацци?
– В течение семи лет, – кивнул он. – Когда я вернулся работать в Нью-Йорк, я даже не зашел навестить мою семью. Поверь мне, Джуно, я не в состоянии был любить, чувствовать, уважать другого человека. Я сам не был человеком тогда: я жил, чтобы работать. Ходячее приложение к фотокамере. Я мог сидеть в машине возле отеля в засаде неделю, чтобы сделать один-единственный снимок. У меня не было ни возлюбленных, ни друзей. У меня были только деньги. Я доверял только тем, кто платил. В один прекрасный день мне надоела такая жизнь, и тогда я захотел умереть.
– Почему?
– Это твое любимое слово, да?
– Но ведь за каждым желанием – а тем более за желанием умереть – стоит какая-то причина.
– Ты помнишь Дорку д'Эрмине?
Джуно высоко подняла брови:
– А как же! Звезда почище Гарбо. Я думала, что она умерла еще в семидесятых.
– Нет, постарев, она стала затворницей. Жила в своем особняке на Ривердаейле – это что-то вроде Беверли-Хиллз в Нью-Йорке. Он был окружен высоченной стеной, как государственная тюрьма, и примерно так же охранялся. Мы знали, что два раза в неделю она посещает врача в клинике, но все равно не могли выследить ее: время посещений постоянно менялось, окна в лимузине были тонированные, клиника оборудована подземной парковкой. Все хотели ее сфотографировать: ее последний снимок был сделан больше десяти лет назад. Я решил во что бы то ни стало быть первым и начал настоящую охоту на эту женщину. Я добился своей цели – как всегда. Я сфотографировал ее. У нее было абсолютно желтое лицо. Как у моего отца перед смертью. Чудовищно желтое. Она закричала на меня по-французски, размахивая палкой, зажатой в исхудавшей руке. Это была маленькая старушка, слабая и беспомощная.
Он уткнулся лицом в ладони и продолжал говорить сквозь пальцы, как человек в железной маске.
– Через неделю она умерла. Она заслужила красивого ухода. Она была великая актриса и необыкновенная женщина. В некрологах печатали ее фотографии в расцвете красоты. В них говорилось о том, сколько «Оскаров» она получила, как много сил отдавала благотворительности и что никогда не была замешана ни в каких скандалах. Но всю последнюю неделю ее жизни, до самой смерти, весь мир, будь он проклят, только и делал, что смаковал фотографию изможденной старой женщины с неизлечимо больной печенью. Я превратил божество в иссохшую мумию из кожи и костей и выставил на всеобщее обозрение и поругание.
На этой фотографии я заработал кучу денег. Помню, как снял со своего счета двадцать тысяч наличными, сидел у себя в квартире и рвал их на мелкие кусочки, бумажку за бумажкой. По всем каналам шли фильмы с участием Дорки д'Эрминэ. Один в квартире, усеянной обрывками сто долларовых банкнот, я смотрел их все подряд. – Он взглянул на Джуно измученными глазами. – Ты меня ненавидишь?