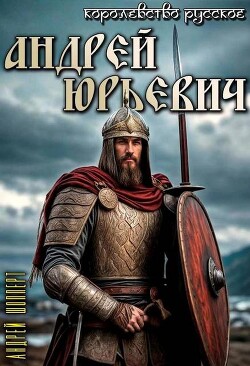Город из воды и песка (ЛП) - Дивайн Мелина
* * *
Воскресенье встретило шквалистым ветром и низкими тучами. Войнов еле проснулся. Ехать не хотелось, но он всё же решил собираться.
Смартфон показывал два пропущенных от Саши. Ужасно хотелось с ним поговорить, услышать голос, узнать, как дела, чем он накануне занимался. Поболтать — просто, без намёков, без секса. Хотелось, чтобы Саша рассказал, чем живёт, чем дышит, что ему нравится, что не нравится. Войнов поймал себя на мысли, что хотел бы знать про Сашину семью, родителей, друзей. Открылся ли он им? Поддержали ли они его?
Такие вопросы всплывают, когда уже знаешь парня, когда вы встречаетесь или даже начинаете жить вместе. С Сашей ничего подобного не было. Даже близко. А вопросы крутились. Желание знать Сашу лучше становилось едва ли не навязчивым. Вот только кто Войнов для Саши? И кто Саша для него? Случайный знакомый? Виртуальный любовник? Неразгаданный. Неуловимый. Ещё совсем-совсем непонятный. Странный. Далёкий. И всё же — так хотелось знать, что он любит. Вот, например, на завтрак. У Войнова в воскресенье были тосты и авокадо. Он не заморачивался, просто порезал авокадо слайсами, присыпал солью, закинул пару кусков хлеба в тостер. Было вкусно. С кофе — самое то. Интересно, что бы сказал Саша? Войнов был уверен, что все люди делятся на два типа: тех, кто обожает авокадо, и тех, кто терпеть его не может. Так что бы сказал Саша? «Фу, Никит, ну что за зелёная гадость! Не на-до нам ни-ка-ко-го а-во-ка-до! От одного вида выворачивает. Убери с глаз моих. Иди ты на фиг — пойду есть в комнату». Или: «М-м-м, а кто у нас тут сегодня? Зелёненький? Йями-и! Вкусняшка! Давай скорей сюда. А яичницу не пожарил? Ну бли-и-ин! Ни-ки-та! Ну чо ты зафейлил-то всё?!»
Он бы пришёл на кухню взъерошенный, немного сонный, слегка недовольный (потому что в выходные, тем более в воскресенье, лучше вообще не вставать, ни во сколько, ну!), в какой-нибудь яркой дурацкой футболке (да хоть с Губкой Бобом) и широких трусах. Сел бы за стол, вытянув ноги (а может, скрестив), и утро бы из наливающегося, пасмурного превратилось в лёгкое, прозрачное, дымчато-голубое. Он бы хотел побурчать, совсем немного, чуть-чуть, в самый раз для воскресного утра, но Войнов бы лишь улыбнулся, обнял Сашку сзади за плечи и прижался губами к его растрёпанной макушке.
Они бы позавтракали и стали собираться куда-нибудь (на выставку, встретиться с друзьями, а может быть, надо было заехать к Сашиным родителям или к Никитиной маме, ну или к тому же Ренату на дачу). И уже в прихожей, одетые, вспомнили бы, что что-то забыли: мобильник, наушники, кепку, что-нибудь, что обещали взять друзьям, — в общем, неважно. И когда Войнов вышел бы снова в прихожую, прихватив забытое, Саша бы уже бил копытом у входной двери: «Ну где ты, Ни-ки-та!» — но Войнов, увидев его, как будто сто лет не видел, накинулся бы, прижал к двери, притиснулся, вплавился, шепча Саше в щёку, упираясь пахом в бедро, уже не в себе, а совсем в нём, в Санечке, в Сашке: «Всех к чёрту. Останемся, слышишь? Никуда не поедем». «С ума сошёл, Ни…» — Сашка бы не смог закончить, воскликнув от возмущения или счастья, когда Войнов бы вдруг махом подхватил его под бёдра, вскинул, заставив ухватиться ногами за Войнова, повиснуть на нём, обвившись жимолостью или клематисом… Гибкий, тонкий, проворный, словно юркими птичьими лапками, вцепившийся пальцами Войнову в волосы, в плечи: «Дурной… балбес… ненормальный… любимый…»
Солнце прорезалось ненадолго, когда Войнов нёсся по шоссе к Ренату на дачу. Казалось завораживающим видеть, как лучи, нити света, прорезая тяжело-сиреневое тёмное нервное небо, косо ложатся тонкой сетью на поля, деревья, дорогу. Как рядом несутся машины, такие механически правильные, бездушные, многолошадные, и им плевать на солнце, на ветер, на макушки туч и деревьев. Да и Войнову было бы тоже плевать, если честно. Но он опять думал, что Саша сидит рядом на пассажирском, в коротких шортах, и его ноги заливает этим внезапным, невыносимым, ослепительным солнцем. Волоски на коленях и бёдрах вспыхивают медвяно-жёлтым, а кожа кажется волшебной, шёлковой, сливочно-вкусной, как топлёное молоко. И даже если её не гладить и не пробовать языком, всё равно понимаешь, даже почти чувствуешь, как во рту собирается тепло и тонко — вкус, запах, наслаждение от прикосновения — такое вот странное, осязаемое, обоняемое счастье.
Саша бы, верно, лазил в своём смартфоне и читал Войнову что-нибудь вслух, новенькое про книги, обзоры, отзывы или что-то другое, что ему интересно. Его голос и обласканные солнцем ноги — это было бы невозможное сумасшествие, прямым попаданием в темечко или сразу в печёнку. Впрочем, побоку остальные части тела — сердце уже разодрано и кровоточит зелёно-сиреневым, какой-то странной кровью моллюска или осьминога, ну или кальмара — хер его знает. Но Сашка такой, оторвавшись от чтения, говорит недовольно-довольный: «Эй, за дорогой следи всё-таки, ладно?»
И Войнов готов сдохнуть, прямо там, под колёсами собственной тачки или тачки чужой, головой в искорёженной раме, лишь бы этот момент, мгновение осталось с ним навсегда — осязаемым, суперреальным, в формате 3D — во вспышке беспощадного солнца, когда он выжимает сто десять на летящем вперёд, прямо в пузатое брюхо сиреневой тучи, подмосковном шоссе.
* * *
Ренат встретил его на террасе, демонстративно и бойко чмокнув в губы. Там же был Вольф и ещё двое друзей Рената, одного из которых Войнов знал, а второго видел впервые.
— Что за вольности, Ренатик? — пожурил его Войнов, хлопнув по спине, без всяких там нежностей.
— Соскучился. О-ох! Сколько зову тебя — а ты всё никак! Неуловимый Джо!
— Ага, ну как же. Сказал бы, что ли, Тёмычу, что я тебе нужен дозарезу. Похлопотал бы за друга.
— Ник, рад тебя видеть! — Это уже был Вольф, улыбающийся, как всегда собранный, невозмутимый, даже здесь, вдали от дел, работы и чужих глаз.
— Дружище! — Войнов сразу перешёл на немецкий. — Как дела?
— Хорошо. Я надеялся, что ты приедешь. Ренат обещал.
— И обещание сдержал, заметь! — сказал Ренат на немецком.
— Но ты не был уверен! — рассмеялся Вольф, сверкнув белыми зубами.
— Если Ренат обещает — выполняет, — пожал плечами Ренат.
Потом они все вместе посидели с пивом. Правда, Ренат всё больше зависал со своими друзьями, а Войнов с Вольфом говорили за жизнь, за дела, за работу — всё-таки почти год не виделись. Вольф был всё таким же, аккуратным, сдержанным: безупречная голубая рубашка, светлые, зачёсанные назад волосы, чем-то едва уловимо вкусно пахнущие, внимательные прозрачно-голубые глаза, высокий лоб, уже прорезанный морщинами, ухоженные ногти на красивых гладких руках. Вольф был на семь лет старше Войнова, и это замечалось, чувствовалось — не столько внешне, сколько по тем отличиям, что между ними были: в мировоззрении, в какой-то внешней и внутренней невозмутимости, в отношении к жизни в целом. По крайней мере, Войнов это видел и отмечал — каждый раз оказываясь с Вольфом рядом. Вольф казался каким-то не то чтобы взрослым, а выросшим, переросшим всякие глупости, неожиданности, нежданности, странности, которые происходили или всё ещё могли произойти в его жизни. Он ощущался мудрым, самодостаточным, прочно стоящим на отнюдь не глиняных, скорее уж каменных, крепких ногах; не подверженным чужому, порой предвзятому мнению. В общем, для Войнова именно Вольф виделся большим и взрослым, а сам он, в противоположность, представлялся себе импульсивным, незрелым, слишком зависимым от других людей, взглядов и мнений.
Они проговорили минут сорок, а потом их прервал звонок. Вольф извинился и ушёл в дом. Войнов понял, что его дёрнули по работе. Ну конечно. Вольфа? Неудивительно. Он по-прежнему жил работой, отдавал ей слишком много. Жертвуя другими вещами, личными, не менее важными.
Ближе к вечеру Ренат растопил баню. Они ждали Вольфа, но тот всё не появлялся. Рената делегировали узнать, когда Вольф освободится, и Ренат вернулся со словами: «Это, похоже, надолго. Вольф сказал начинать без него. Освободится — придёт». Ну и они вчетвером: Ренат, Войнов, Гарик, Володя — попарились на славу. Сначала Ренат и Гарик охаживали веничками Володю и Войнова. Войнов, быть может, и рад был бы, чтобы его отхлестал кто-то другой, но это всегда был Ренат — и никто иной. Незыблемая, можно сказать, традиция. Ренат делал это нещадно и самозабвенно, реально хорошо, со знанием дела, но бо-ольно! И потом, собственную экзекуцию он доверял только Войнову, и тогда уж тот отрывался будь здоров! После того, как сам сначала выл под душистым дубово-смородиновым веником: «Бля, Ренатик, полегче! Уй, да чтоб тебя! Твою ж мать!» А после «экзекуции» — в ледяную купель — благода-ать! Ну и там опять холодного пива на терраске — вот это жизнь! Ка-айф!