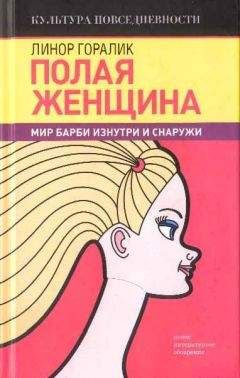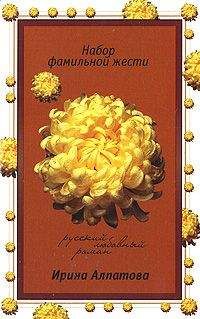Ирина Алпатова - Барби играет в куклы

Обзор книги Ирина Алпатова - Барби играет в куклы
Алпатова Ирина
Барби играет в куклы
Часть 1
— Однажды Катина сноха поехала в Ленинград. Ну, села в поезд и едет себе…
Я усаживаюсь поудобней, потому что история может оказаться длинной, даже слишком длинной, и вдруг со мной случится конфуз — я задремлю и клюну носом, или того хуже — свалюсь со стула. Про Катю и ее сноху я знаю немало, хотя их самих никогда не видела, да и вряд ли увижу. В Ленинграде я тоже никогда не была и уж совершенно точно не побываю, может быть, с Санкт-Петербургом мне повезет больше. Но это так, к слову.
Когда Бабтоня заводит свою очередную историю, то всегда начинает ее с эпического "однажды". А я пью чай или рассматриваю бесчисленные чайнички, кувшинчики, салфетки — это зависит от того, где именно нас накроет волна Бабтониных воспоминаний, и даю команду (про себя конечно): пошли! И вот перед моим мысленным, так сказать, взором начинает свое совершенно беззвучное шествие стадо слонов. Почему именно слонов а, например, не верблюдов или баранов и для меня самой остается загадкой, но так уж сложилось.
"… и вот она чуть было не померла родами…" — это мимо меня проходит первый слон. Я прилежно разглядываю вожака, его огромные грязно-серые бивни, складки на толстой шкуре. Ага, вот на меня насмешливо глянул круглый черный глаз. Слонище медленно шествует своей дорогой, а за его хвост цепляется хоботом следующий слон, чуть поменьше: "…а Робе́рт однажды возьми да и упади со стремянки, да сломай ногу…". Да уж, некий Роберт с ударением на втором слоге, как я посмотрю, был большой любитель создавать проблемы не только себе, но и своим ближним, и его сломанная нога это так, семечки по сравнению с другими Робертовыми художествами. Но вот наконец и слон Роберт со стремянкой протопал мимо, а за ним еще один. В общем, эта вереница может тянуться очень долго, а иной раз пройдут пять-шесть слоников и все. И тогда я недоверчиво смотрю вслед последнему — эй, ты точно последний? Алло, может быть, я ошиблась? А его хвост и все что к нему прилагается, выражают некоторое снисходительное презрение ко мне.
Ну что поделать, если все истории Бабтони имеют только прошедшее время. Вот она и склеила некую цепочку событий в кольцо и гоняет ее по кругу. Я смотрю это заезженное кино в сотый раз и ничего, иногда даже вполне искренне подыгрываю, не сидеть же ей в кинозале одной.
А Люшка все начинает с непредсказуемого "вдруг". Вечно она кого-то встречает или теряет. Я просто поражаюсь, как много самых немыслимых вещей происходит в непосредственной близости от Люшки. Да, что-то такое в этом "вдруг" есть. Какие уж тут слоны и верблюды. Люшка вбрасывает мяч, и игра начинается, и я слежу за ней, разинув рот.
Ну а как же я? Как быть со мной? Соберись я кому-то рассказать о себе, то с какого слова начать? Вообще-то был большой соблазн пойти по Люшиным стопам, тем более что у меня с моей грацией и ловкостью таких "вдруг" можно набрать несметное количество. Но не получилось. Потому что история сама решила начаться с одного совершенно обычного вечера, когда ничего не было разбито и опрокинуто, и не было замечено никаких знамений типа: "и тут старинные напольные часы, много лет назад остановившиеся, вдруг глухо пробили тринадцать раз…". Ничего такого они вытворять не стали, стояли себе тихо в коридоре и помалкивали, и Полковник…
Полковник в тот вечер как всегда без стука распахнул дверь моей комнаты, хотя мне, между прочим, было на тот момент пятнадцать лет. А вежливые люди, как известно, обычно в таких ситуациях стучатся, а не вламываются запросто к человеку, да еще к девушке. Всё это известно кому угодно, но только не Полковнику.
У него имеется куча всяких противных привычек, а главное, он всегда может, топая как разъяренный носорог, пронестись по коридору и, вот как в тот вечер, — бац! — совершенно неожиданно распахнуть дверь твоей комнаты. И вот Полковник стоит черным силуэтом на пороге и шарит рукой по стене, нащупывая выключатель. Он, видите ли, терпеть не может закрытых дверей, темноты, ничегонеделания…. Да мало еще чего он не терпит, хотя бы меня, к примеру.
Но именно из темного окна был хорошо виден снег, косыми линиями штриховавший густые сумерки декабря. Навалившись грудью на подоконник и прижав лоб к холодному стеклу, я целую вечность могла смотреть то на этот снег, то на соседского сеттера Мики, гонявшегося по двору за только ему видимой добычей. Конечно, я не могла отсюда видеть ни веселых шоколадных глаз, ни влажную шерсть на аккуратной красивой голове, но мы с ним были хорошо знакомы и всегда при встрече здоровались и улыбались друг другу. Георг сидел рядом со мной и тоже таращился в темноту. Его здоровенная круглая башка была неподвижна, но я нисколько не сомневалась, что ни одно движение пса, мячиком скакавшего внизу, не осталось незамеченным. И я запросто могла угадать ленивые мысли Георга о том, что только распоследний идиот может носиться по снегу, вместо того чтобы с комфортом сидеть на уютном подоконнике.
А снег… я давно заметила, что если смотреть на него долго-долго, то начинает казаться, что тяжелая башня дома все-таки оторвалась от земли и летит теперь в черную бесконечность. И я все пристальнее всматривалась в исчирканную снежинками темноту — а вдруг мимо тяжело и величественно пролетит какой-нибудь другой дом, и в таком же темном окне я угадаю чей-то силуэт и мы, невидимые, помашем друг другу — привет! Да, я летала именно так, в этой вот махине, а не на каком-то там самолете, тем более что на самолете мне никогда летать не приходилось, и летающий дом почему-то представлялся легче. А потом мой дом торжественно приземлялся ТАМ, где живет мама.
Вот в этом месте моя фантазия неизменно давала сбой, потому что я никак не могла решить, какая ТАМ погода, утро или вечер, зима или лето. А главное, мне совершенно не удавалась сцена встречи с мамой. Вот выхожу я из подъезда только что приземлившегося дома и… что? А то, что я в этот момент начинала жутко суетиться. Если я выхожу летом, то в своих кургузых старых тряпках буду смотреться просто ужасно, если зимой… нет, из куртки я тоже давно выросла. И не надо говорить, что тряпки тут совершено ни при чем, потому что кроме них мне предъявить будет совершенно нечего. Фигуры нет, то есть ее чрезмерно много и она, эта самая фигура, лезет из детских вещей как перестоявшееся тесто из кастрюли, лицо… нет, про него вообще лучше не думать. Я предпринимала отчаянную попытку хотя бы мысленно все это подправить и приукрасить, но держать под контролем и свою глупую физиономию и упитанную тушку одновременно было выше всяких сил. Поэтому что-нибудь непременно пыталось вернуть себе привычный и отнюдь не лучший вид.